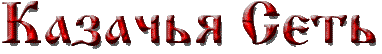|
|
|
П.
Н. КРАСНОВ.
На внутреннем фронте
XIX.
"Взятие"
Царского Села.
В
2 часа мне доложили, что отряд готов. На
площади перед дворцом в резервной
колонне стоял казачий полк, батареи
вытянулись по улице. Я объехал ряды. Все
было в порядке. Головная сотня по моему
приказанию вытянулась вперед, бойко
застучали копытами по грязному шоссе
лошади дозорных казаков. За второю от
головы сотнею потянулись громыхая
казачьи пушки. Гатчина притаилась. Нигде –
ни огонька, нигде не светится ни одна
щель ставни. Вряд ли спала она в эту
тревожную ночь, когда быстро стучали
конские копыта по камням и тяжело гремели
и звенели пушки.
Было
темно. Я попробовал вести отряд
переменными аллюрами, но батареи
отставали, – пришлось идти шагом. Отошли
четыре версты, остановились, слезли,
подтянули подпруги и пошли дальше. В
восьми верстах от Гатчины, – не доходя
деревни Романова, остановились. В чем
дело?
Впереди
застава – рота стрелков. Не пропускает.
Что же делает? – Разговаривает.
Прорысил
мимо меня дивизионный комитет с
подъесаулом Ажогиным. Такая "война"
была мне противна, но при малых моих силах
приходилось покоряться: она была выгодна
для меня.
Разговоры
затягиваются, время идет. Близок рассвет.
Я командую: "шагом марш" и еду к
заставе. На середине шоссе – три офицера
стрелка и несколько солдат.
– Сдавайтесь" господа, – говорю я им
ласково.
– Уже сдают винтовки, – говорит мне
командир головной сотни.
Мы
едем дальше. В предрассветных сумерках
видна выстраивающаяся рота без оружия. С
поля, из наскоро нарытого окопа подходят
люди, несут и отдают казакам винтовки.
Путь свободен.
– Куда прикажете вести людей? – спрашивает
меня офицер стрелок.
– Оставайтесь в деревне до обеда, отдохните,
а после обеда идите домой, в Царское Село...
Не
расстреливать же их поголовно! А другого
исхода не было. Или на волю, или
перестрелять.
В
мутном свете наступающего хорошего
солнечного дня показалось Царское Село.
Опять остановка. Дорогу преграждает цепь.
Солдат много. Не меньше батальона (800
человек). Раздаются редкие выстрелы.
Заставы мои прижались за домами деревни
Перелесино. Наступает психологический
момент, от него зависит все дальнейшее. Я
приказываю спешить две головные сотни и
выехать на позицию трем батареям.
Остальным сотням их прикрывать. Сам еду к
цепям.
Огонь
со стороны стрелков усиливается. Трещит
пулемет, по все-таки это – не настоящий
огонь батальона. Или у них мало патронов,
или они не хотят стрелять. Я приказываю
энергично наступать, а артиллерии – открыть огонь по казармам. Там, подле
казарм, живет моя жена, это знают многие
казаки и офицеры, бывавшие у нее тогда,
когда мы стояли в Царское. Командир
батареи деликатно бьет на высоких
разрывах. Казармы Царского окутываются
дымками шрапнелей. Но цепи не отходят.
Идти вперед? Но нас до смешного мало.
Продвигаясь вперед, мы попадаем под
обстрел с обоих флангов.
Опять
выручают енисейцы. Коршунов ведет их – всего 30 человек
– в обход.
И
цепи стрелков отходят. Мы продвигаемся за
Перелесино. Видны в конце шоссе ворота
Царскосельского парка. Там все кишит
людьми. Весь гарнизон столпился у ворот.
Если они откроют дружный огонь по нас, то
моих казаков сметет так же, как смела 111-я
пехотная дивизия моих кубанцев. Но они не
стреляют. Похоже, что там митинг.
Дивизионный комитет садится на лошадей и
едет вперед. По нему раздается пять-шесть
выстрелов. Он, не обращая внимания, едет
дальше. Кучка в 9 всадников быстро
приближается к толпе. От толпы отделяется
несколько человек.
Разговоры...
Октябрьское
солнце поднимается на бледном небе.
Серебрится роса на рыжей траве и кочках
болота, блестят дощатые крыши домов, ярко
сверкают зеленые купола Софийского
собора. День настает, а они все
разговаривают. Это надо кончить. Я сажусь
на свою громадную лошадь и в
сопровождении адъютанта, ротмистра
Рыкова, и двух вестовых галопом еду туда.
Комитет
окружен офицерами и стрелками. Идут
разговоры. Или они стараются выиграть
время, ожидая помощи (конечно, моральной, –
физической силы у них было слишком
достаточно) из Петрограда, или сами не
знают, что делать.
– Господа, – говорю я им. – Не нужно
кровопролития. Сдавайте оружие и
расходитесь по домам.
Офицеры
соглашаются со мною и идут уговаривать
стрелков. Но между стрелками раскол.
Часть – около полка – густой колонной
отделяется вперед и идет к нам, чтобы
сдать ружья. Но другая часть бежит в цепь
по опушке парка, стараясь охватить нас, Я
и комитет отъезжаем к цепям.
В
цепях разговаривает с казаками статный,
красивый человек средних лет, с выправкой
отличного спортсмена в полувоенном
платье, с амуницией и биноклем. С ним – какие-то два молодых человека и офицер-казак.
– Савинков, – говорит он мне.
Мы
здороваемся. Савинков расспрашивает про
обстановку.
– Что вы думаете делать? – спрашивает он
меня.
– Идти вперед, – говорю я. – Или мы победим,
или погибнем; но если пойдем назад,
погибнем наверно.
Савинков
соглашается со мною. Он говорит мне
несколько слов по поводу того, как лестно
обо мне и любовно отзывались казаки.
Революционер
и царский слуга!
Как
все это странно!
Сзади
из Гатчины подходит наш починенный
броневик, за ним мчатся автомобили – это
Керенский со своими адъютантами и какими-то
нарядными экспансивными дамами.
– В чем дело, генерал? – отрывисто
обращается он ко мне. – Почему вы ни о чем
мне не доносили? Я сидел в Гатчине, ничего
не зная.
– Доносить было не о чем, – говорю я. – Все
торгуемся.
И
я докладываю ему обстановку.
Керенский – в сильном нервном возбуждении. Глаза
его горят. Дамы в автомобиле, и их вид
праздничный, отзывающий пикником, так
неуместен здесь, где только что стреляли
пушки. Я прошу Керенского уехать в
Гатчину.
– Вы думаете, генерал? – щурясь говорит
Керенский. – Напротив, я поеду к ним. Я
уговорю их.
Я
приказываю енисейской сотне сесть на
лошадей и сопровождать Керенского, еду и
сам.
Керенский
врезается в толпу колеблющихся солдат,
стоящих в двух верстах от Царского Села.
Автомобиль останавливается. Керенский
становился на сиденье, и я опять слышу
проникновенный, истеричный голос.
Осенний ветер схватывает слова и несет их
в толпу, отрывистые, тусклые, уже никому
ненужные, желтые и поблекшие, как осенние
листья.
...Завоевания
революции... Удар о спину... Немецкие
наемники и предатели!..
Казаки-енисейцы
въезжают в толпу и силой отбирают
винтовки. Сзади подъехал наш грузовик, и
гора винтовок растет на нем.
Обезоруженные
солдаты сконфуженно идут прямо полем к
казармам. Но там, у ворот Царского,
настроение иное. Там кто то распоряжается.
Цепи выходят из парка, они учуяли нашу
малочисленность и стараются окружить нас.
С моего правого фланга тревожные
донесения. На него из Павловска наступают
цепи и оттуда стреляет батарея.
Я
прошу Керенского отъехать назад и
вызываю взвод Донской батареи, той самой
батареи, которая не раз выручала меня в
тяжелые минуты в настоящей войне. Донские
пушки становятся на шоссе в какой-нибудь
версте от цепей и громадного скопища
солдат у ворот Царскосельского парка.
Молодцов артиллеристов можно
перестрелять, как куропаток. Я и енисейцы
отъезжаем в боковые улички предместья.
Наступает
томительная тишина. И вдруг – тах, тах, тах,
– затрещали ружья по нашему левому флангу.
– Первое!.. – раздалась команда, – пли!
И
за первой, почти сливаясь, ударила вторая
пушка. И затихла. Два белых мячика разрыва
отчетливо сверкнули над самыми головами
центральной толпы. И будто слизнули они
все это море голов и блестящих штыками
винтовок. Все стало пусто. Вся эта
громадная многотысячная толпа метнулась
в сторону и побежала сломя голову к
станции, наваливаясь в вагоны и требуя
отправки в Петроград.
Казаки
стали входить в Царское.
В
сумерках Царское Село было занято.
Солдаты гарнизона, не успевшие убежать по
железной дороге, попрятались в казармы,
отказывались выдать оружие, но и не
предпринимали ничего враждебного против
нас. Казаки почти без сопротивления
овладели станцией железной дороги,
подошли к Александровской и заняли
радиостанцию и телефон.
Победа
была за нами, но она съела нас без остатка.
XX.
В
Царском Селе.
До
часу ночи я оставался на окраине Царского
Села, устанавливая связь со своими
частями. Тактически мне не надо было
входить в Царское. Окруженное громадными
парками с путанными дорожками,
представляющее из себя множество ломов,
легких для обороны и трудных для атаки,
требующее большого гарнизона для
наблюдения за порядком, – оно было мне не
нужно. Но политически нужно было не
только войти в него, но и занять дворцы,
сесть в них прочно, выкурить оттуда
местные силы. Царское занято тогда, когда
Керенский будет сидеть во дворце, а я – на
своей старой штаб-квартире – в
служительском доме дворца Марии Павловны;
без этого Царское не поверит, что оно
взято, а не поверит Царское – не поверит и
Петроград. В час ночи я перешел в центр
Царского Села, и маленькая горсть казаков,
всего две сотни, стала на дворе дворца
Марии Павловны. Надо было отдохнуть,
накормить людей и лошадей, обдумать
положение.
И
опять для того, чтобы продолжить
моральную победу, надо было идти, не
останавливаясь, буде возможно, тою же
ночью, – на Петроград.
Хорошо,
идти? Но с кем?
За
весь день 28 октября к нам подошло три
сотни 1-го амурского казачьего полка, но
амурцы заявили, что "в
братоубийственной войне принимать
участие не будут", что они "держат
нейтралитет", и отказались даже
выставить заставы для охраны Царского
Села и сменить усталых донцов... Они стали
в деревнях, не доходя до Царского Села.
Те
люди, которые шли со мною, были сильно
утомлены. Они двое суток провели без сна в
непрерывном нервном напряжении. Лошади
отупели, не имея отдыха. Необходимо было
дать передышку. Но мои люди не столько
устали физически, сколько истомились в
ожидании помощи. Комитеты мне заявили,
что казаки до подхода пехоты дальше не
пойдут. Надежда на то, что кто-либо
подойдет за день, и желание лучше
выяснить обстановку заставили меня
назначить на 29 октября дневку в Царском
Селе.
Офицеры
моего отряда – все корниловцы – возмущались поведением Керенского. Он
обещал дать помощь, но он не только не
дает нам посторонних войск, но и не может
принудить вернуть корпусу части,
входящие в него. Его популярность пала, он
– ничто в России, и глупо поддерживать его.
Вероятно, под влиянием разговоров с
офицерами и казаками, которые говорили:
"пойдем с кем угодно, но не с Керенским",
ко мне зашел Савинков и предложил убрать
Керенского, арестовать его и самому стать
во главе движения.
– С вами и за вами пойдут все, – говорил мне
Савинков.
Но
я знал, что это было не так. Я был генерал,
это во-первых. Во-вторых, мое отношение к
войне и победе было слишком хорошо
известно солдатским массам. Я мог
усмирить солдатское море не из
Петрограда, а из ставки, ставши верховным
главнокомандующим и отдавши приказ о
немедленном перемирии с немцами на каких
угодно условиях. Только такая постановка
дела могла привлечь на мою сторону
солдатские массы. Но, конечно на это я не
мог пойти. Да и это не спасло бы Россию от
разгрома. С этим не согласились бы
офицеры и лучшая часть общества. А без
этого – без мира – свержение и арест
Керенского только сделали бы из него
героя и еще более усилили бы разруху.
Была
и еще одна деликатная сторона дела.
Керенский явился ко мне искать у меня
спасения и помощи. Я не отказал в ней, я не
прогнал его сразу. Он был до некоторой
степени гостем у меня, он мне доверился, и
арестовывать его было бы нечестно,
неблагородно, не по-солдатски. Я отверг
предложение Савинкова.
Но
с известными настроениями казаков все-таки
приходилось считаться, 9-й донской
казачий полк волновался. Ко мне явился
войсковой старшина Лаврухин, окруженный
крайне возбужденными казаками, почти с
требованием немедленно удалить
Керенского из отряда, потому что казаки
ему не верят, считают, что он идет заодно с
большевиками и предает нас для того,
чтобы уничтожить единственных верных
правительству людей, а отчасти мстя за
участие в походе с Корниловым. На мое
счастье в Царское приехали Станкевич и
Войтинский. Я просил их поговорить с
казаками и разъяснить им всю
политическую сторону борьбы и
необходимость наступления на Петроград
во что бы то ни стало, а сам отправился к
Керенскому. С большим трудом мне удалось
уговорить его переехать в Гатчину, где
отношение было лучше, куда прибыл мой
штаб корпуса, установил аппарат Юза со
ставкой и откуда он мог скорее подать нам
помощь.
Другой
моею заботою было усилить до пределов
возможного свой отряд за счет
Царскосельского гарнизона. Неужели из
16.000 солдат-стрелков не найдется хотя бы
одной тысячи, которая согласилась бы
пойти с нами! Я вызвал офицеров к себе. Они
все были против большевиков и обещали
повлиять на солдат. Начались митинги. Но
резолюции были самые неутешительные.
Солдаты обещали не вмешиваться в "братоубийственную"
войну и держать полный нейтралитет. Я и
этому должен был быть рад, – по крайней
мере, не ударят в спину.
В
Царском Селе находилась пулеметная
команда 14-го донского казачьего полка. Я
вызвал ее офицеров и комитет. Явились
самые настоящие большевики. Злые, упорные,
тупые, все ненавидящие. Тщетно и я и чины
дивизионного комитета говорили им о
любви к Дону, о необходимости согласия
всех казаков между собою, о призыве от
совета союза казачьих войск стать на
защиту правительства. Напрасно простые
казаки комитета, энергично разрушая
программу большевистских вождей,
говорили: "нам, господа" казакам, с
большевиками никак не по пути", – представители 14-го полка уперлись, как
бараны, что они заодно с Лениным, что
Ленин за мир, и категорически отказались
помочь.
Весь
день прошел в бесплодных переговорах.
Пришли ко мне помогать несколько человек
юнкеров из Петрограда, запасная сотня
оренбуржцев л. гв. сводного казачьего
полка" вооруженная одними шашками и
предводительствуемая очень лихим юношей,
два орудия запасной конной батареи из
Павловска, наполовину без прислуги,
отличный блиндированный поезд, да к
вечеру я узнал, что три сотни 9-го донского
казачьего полка высадились в Гатчине. Я
послал им приказание спешно выступить
походом к Царскому Селу.
Итак,
к вечеру 29 октября мои силы были: 9 сотен,
или 630 конных казаков, или 420 спешенных, 18
орудий, броневик "Непобедимый" и
блиндированный поезд. Если настроение
петроградского гарнизона такое же, как
настроение гарнизонов Гатчины и Царского
Села, – войти в город будет возможно... А
там? Там это будет уже дело Керенского,
Войтинского и Станкевича, дело комитета
спасения родины и революции, дело советов
союза казачьих войск, наконец, дело
Савинкова и министров организовать
гарнизон Петрограда и произвести с
помощью его, а не нас, необходимую чистку
города и аресты.
Керенский,
Савинков и Станкевич настаивали на
наступлении. По их сведениям, в
Петрограде борьба с большевиками в
полном разгаре. Нас ждут, мы должны прийти
и спасти жителей города и Россию от
большевистского ига. Вечером ко мне
явились комитеты 1-й донской и
уссурийской дивизий. Подъесаул Ажогин,
конфузясь и стесняясь, заявил, что казаки
отказываются идти на Петроград одни, без
пехоты. Если пехота не приходит, значит,
она вся против правительства и идет с
большевиками. Нам одним все равно ее не
победить. Я горячо начал возражать им. Я
говорил, что пехота сама не знает, чего
она хочет. Заняли же мы без боя Гатчину и
Царское? Как можем мы отказываться идти
вперед, не зная, что будет. А если правда,
что 1-й, 4-й и 14-й донские полки выйдут нам
навстречу, если преображенцы и волынцы
только и ожидают нас? Мы должны разведать,
узнать все и тогда решить. Я сам понимаю,
что девятью сотнями нам Петрограда не
взять, да если бы и взяли, так не охранили
бы, но к нам примкнут сотни тысяч людей;
будет великим позором для наших славных
знамен, если мы откажемся даже разведать.
– Вы меня знаете за всю войну, – горячо
говорил я казакам. – Разве я водил вас
когда-либо очертя голову? Сделаем
разведку, произведем усиленную
рекогносцировку с боем, а тогда и увидим,
кто наш противник. И, если нельзя, то
нельзя. Отойдем, будем обороняться и
ждать помощи.
– Не придет эта помощь! Все против нас! –
с
тоскою сказал кто-то из казаков.
Но
комитет сдался. – Попробовать надо,
раздавались голоса. – Как же это так, без
разведки-то никак не возможно. Генерал
прав...
Разошлись,
постановив на том, что мой приказ
исполнять точно. Я понимал, что при таком
настроении казаков нечего было и думать о
серьезном бое, да и мало было нас, и отдал
приказ об усиленной рекогносцировке в
направлении на Пулково.
Всю
ночь казачьи заставы перестреливались с
матросами у Александровской станции.
Небольшая команда матросов прошла к
виадуку, лежащему между Александровской
и р. Пудостью и здесь обстреляла поезд,
шедший с осадным полком из Луги. Солдаты
осадного полка остановили поезд, частью
сдались, частью разбежались, куда глаза
глядят, бросивши свои пушки на платформах.
Мне стоило большого труда уже своими
казаками, офицерами и юнкерами при помощи
броневого поезда довести эти пушки
обратно в Гатчину.
От
Артифексова – ничего. Позднее, я узнал,
что его дивизион отказался грузиться в
Режице. Он повел его походом. Но на пути
солдаты взбунтовались. Ему пришлось
двоих застрелить из револьвера и только
этим спастись и бежать от своего
дивизиона.
Да...
Не везло...
Рано
утром 30-го прорвавшийся из Петрограда
гимназист передал мне клочок бумаги,
величиной немного более гербовой марки,
на котором стоял бланк совета союза
казачьих войск и мелко было написано:
"Положение
Петрограда ужасно. Режут, избивают
юнкеров, которые являются пока
единственными защитниками населения.
Пехотные полки колеблются и стоят. Казаки
ждут, пока пойдут пехотные части. Совет
союза требует вашего немедленного
движения на Петроград. Ваше промедление
грозит полным уничтожением детей-юнкеров.
Не забывайте, что ваше желание бескровно
захватить власть – фикция, так как здесь
будет поголовное истребление юнкеров.
Подробности узнаете от посланных (Эта
записка совершенно случайно сохранилась
у меня в одной ив моих записных книжек.
Печальный свидетель начала кровавого
кошмара.).
Председатель
А. Михеев. Секр. Соколов".
Я
объявил эту записку собравшимся казакам
и, казалось, поднял в них настроение.
XXI.
Бой
под Пулковым.
Свежий
осенний день. То солнце, то косой холодный
дождь. На западной окраине
Царскосельского парка в виду
Александровской станции выстраивается
мой отряд. У Александровской идет редкая
перестрелка.
Я
направляю сотню 13-го полка по шоссе на
Красное Село на дер. Сузи, сотню 9-го полка –
на Петроградское шоссе на дер. Редкое
Кузьмине, полусотню – на нижнюю порогу на
Большое Кузьмине в обход Пулкова, взвод –
на Славянку и к Колпину. Ушли... и у меня
почти никого не осталось. Ожидаю
донесений. Обстановка совсем какого-либо
малого маневра под Красным Селом. Даже и
разведка накоротке... Не прошло и часа, как
я получил известие, что сотни
остановились. У Сузи и у Кузьмине
началась перестрелка.
Идем
на выстрелы. Броневой поезд продвигается
по Варшавской ветке к Петрограду.
Я
выезжаю в Кузьмине. По Кузьмину уже
свищут пули. Приходится слезать и идти
пешком. За мною целая свита, чего я так не
люблю. Савинков не отстает от меня, как бы
рисуясь своим нахождением в цепях. С ним –
два каких-то штатских, только что
прибывших из Петрограда. Мне называют их.
Кажется, господа Гоц и Дан.
Мне
эти имена ничего не говорят. Я их не знаю,
но знаю одно, что им не место в цепях, в бою,
и я их под разными предлогами удаляю.
Помогает мне в этом и все усиливающийся
огонь противника. Часто свистящие пули
заставляют исчезнуть с поля битвы каких-то
гимназистов-велосипедистов, офицера с
двумя барышнями, вышедшими из дач
посмотреть на бой. Только мужики и бабы с
ребятишками все не могут понять, что это
не маневры, и никак не уходят. Офицеры
прогоняют их.
– Ну чего гонишь-то! Эка невидаль. Сколько
маневров-то тут было. Никогда не гоняли. И
царь приезжал и то не гоняли, – ворчат
мужики.
Но
появляются раненые и настроение меняется.
Редкое Кузьмине пустеет. Посторонних – никого. Один Савинков бесстрашно ходит по
цепям и смотрит в бинокль на Пулково.
С
окраины дер. Редкое Кузьмино, где залегли
казаки, позиция противника и вся
местность до Петрограда видны отлично. За
Редким Кузьминым – глубокий овраг, по дну
которого в осыпях голубой глины течет
река Славянка. Этот овраг отделяет нас от
большевиков. За оврагом – небольшая
деревушка, потом Пулково. Все склоны
Пулковской горы изрыты окопами и черны от
красной гвардии. Даже на глаз можно
сказать, что там – не менее пяти, шести
тысяч. Они то рассыпаются в цепи, то
сбиваются в кучи. Густые, длинные цепи их
спускаются вниз и идут к оврагу. В бинокль
видно, что это – не солдаты. Цепи двух
видов. Одни в черных штатских пальто, идут
неровно, то подаются вперед, то бегут
назад, это – красная гвардия. Другие,
одетые в черные, короткие бушлаты,
наступают, соблюдая строгое равнение,
быстро залегают, применяясь к местности,
это – матросы. Красная гвардия – в центре,
на Пулковой горе, матросы – по флангам.
Три броневика работают по шоссе. Они
снабжены пушками и обстреливают Редкое
Кузьмино. Другой артиллерии пока нет.
Моя
сила в артиллерии и броневом поезде. Я
расставил батареи за Редким Кузьминым – одну батарею вызвал совсем открыто перед
Редкое Кузьмине и артиллерийским огнем
держу противника в почтительном
отдалении. Один из наших снарядов попал
подле броневика, и видно, как из него
убежала команда а броневик остался
стоять за дер. Сузи. Кто-то, вероятно,
начальник и распорядитель боя, носился в
автомобиле по шоссе, но и его остановили
на шоссе удачным попаданием...
Слева
мои пулеметчики перешли в наступление и
заставили отойти противника к деревне
Сузи. Мне уже было очевидно, что противник
решил сопротивляться, что одним огнем
артиллерии его не собьешь, а живой силы,
чтобы надавить на него, у меня
недостаточно; рекогносцировка дала свои
результаты, но я не уходил. У меня были
Другие ожидания. Гром пушек под самым
Петроградом, известие, что мы деремся под
Пулково, должны же были как нибудь
повлиять на петроградский гарнизон и на
донские полки, там находящиеся. Если они
станут на нашу сторону, если в Петрограде
произойдет восстание не одних юнкеров,
Пулково будет очищено. Но на это нужно
время. Хотя бы до вечера. И до вечера надо
драться. Около полудня я получил
донесение, что большая колонна солдат – тысяч до десяти
– движется от Московского
шоссе на перерез Варшавской железной
дороги, выходя нам в тыл к Большому
Кузьмину. Я послал броневой поезд и
тридцать конных казаков. После получаса
томительного ожидания донесение: колонна
– л. гв. Измайловский полк, в полном
составе, после первой же шрапнели бежал в
беспорядке, один офицер взят в плен.
Разговоры
об этом произвели сильное впечатление на
молодого офицера л. гв. сводного
казачьего полка, стоявшего за неимением
винтовок у его казаков в бездействии
сзади Александровской. Он прискакал ко
мне и просил разрешить ему атаковать
деревню Сузи.
– Погодите, – сказал я ему. – Еще рано. Вы
атакуете вместе со всеми.
Но
не понял ли он меня, или уж очень хотелось
ему отличиться и потешиться над
большевиками, но не прошло и пяти минут,
как за домами стали мелькать конные
фигуры скачущих казаков. Ко мне подошел
полковник Попов и с тревогою спросил: "вы
приказывали атаковать оренбуржцам?".
– Нет, – отвечал я.
– Смотрите, они уже атакуют!
Вернуть
было невозможно. Сотня оренбургской
молодежи с беззаветною лихостью
развернулась в лаву и ринулась на деревню
Сузи, занятую матросами.
Мы
все вышли из-за домов следить за нею.
Казалось, что вот-вот она достигнет своей
цели и – кто знает – потрясет противника.
Правее Сузи, вне поля атаки, целые толпы
черных фигур в беспорядке кинулись
бежать. Но это были красногвардейцы.
Матросы стойко оставались на местах.
Донцы-пулеметчики бегом побежали вперед,
чтобы пулеметным огнем помочь атакующей
части...
Но
казаки наткнулись на болотную канаву.
Лошади стали вязнуть и атака
остановилась. Еще секунда напряженного
волнения. Видно, как под выстрелами, едва
не в упор, падают люди. Командир сотни
убит. И сотня – кто верхом, кто, соскочивши
с лошади, пешком – побежала назад.
Освободившиеся от всадников лошади,
задравши хвосты, метались вдоль фронта и
падали, сраженные пулями матросов.
Потери
сотни были не так велики, как того можно
было ожидать. Убит командир сотни и около
18 казаков было ранено, да погибло до
сорока лошадей, но морально эта неудачная
атака была очень невыгодна для нас. Она
показала стойкость матросов. А матросы
численно более, нежели в 10 раз,
превосходили нас. Как же было бороться
при таких условиях?
Бой
стал затихать. Прибывшие из Гатчины две
сотни 9-го полка с великою неохотою
спешивались и вступали в бой. То та, то
другая батарея смолкала. Снаряды были на
исходе. Патронов было мало. Я послал за
снарядами и патронами в Царское Село. Но
там у артиллерийского склада стояла
сильная вооруженная команда, которая
сказала, что ввиду заявленного
нейтралитета она никому ни снарядов, ни
патронов не даст.
Ко
всему этому на Пулковской горе матросы
установили морское дальнобойное орудие и
начали обстреливать мои тыл, бросая
снаряды вдоль шоссе по коноводам. Снаряды
долетали и до Царского Села и падали
возле Экономического Общества и дворца в.
княгини. Марии Папловны. Это начало
влиять на царскосельский гарнизон. Во
всех полках собирались митинги.
Царскосельская
молодежь, студенты, лицеисты и кадеты, кто
верхом, кто на велосипеде, кто на
извозчике, все время поддерживали связь
со мною, сообщая мне обо всем, что
творится у меня в тылу. Они бесстрашно
проникали в казармы, присутствовали на
митингах, некоторые даже вступали в споры,
и поставляли меня в известность о всех
резолюциях царскосельского гарнизона.
Резолюции
были одинаковы: потребовать от казаков
прекращения боя с угрозой, что иначе весь
гарнизон с оружием в руках выйдет казакам
в тыл. Эти резолюции волновали коноводов.
Обремениые кто тремя, кто четырьмя
лошадьми, они чувствовали себя под такою
угрозой совсем плохо.
Смеркалось.
Короткий осенний день сменялся сумерками
ненастной ночи. Моросил дождь.
Артиллерийский огонь смолкал. Батареи
без приказа отходили назад. Матросы, не
сдерживаемые артиллерийским огнем,
перешли в наступление. С большим
искусством они стали накапливаться на
обоих флангах; не только Большое Кузьмино
было занято ими, но они выходили уже на
Варшавскую железную дорогу, на царскую
ветку и приближались к станции Царское
Село, выходя мне в тыл. Пули прорезывали
деревню Редкое Кузьмино с трех сторон. Я
приказал отойти за полотно Варшавской
дороги. Уходил я последним. У меня болела
левая нога, – и я, хромая, не мог поспевать
за быстро уходящими казаками. Матросы уже
входили в Редкие Кузьмино, непрерывно
стреляя. Постреляли они плохо. Казаки,
укрываясь за домами, перебегали от дома к
дому, я шел с подъесаулом Кульгавовым и
ротмистром Рыковым прямо по дороге. Пули
свистали близко, но ни одна не попала.
С
трудом перелез я через крутую насыпь
железной дороги и прошел в одну из
ближайших дач, чтобы написать приказ об
отходе. В ста шагах вдоль по насыпи лежала
редкая казачья цепь. Дальше все Редкое
Кузьмино было полно матросами и
красногвардейцами. Они подходили уже и к
станции Александровской, но из Редкого
Кузьмина не выходили. Боялись темноты.
Черная
непогодливая ночь наступала.
оглавление
продолжение
|