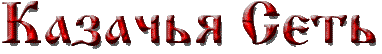|
|
|
П.
Н. КРАСНОВ.
На внутреннем фронте
I. Первые признаки разложения российской
армии.
В
апреле 1917 г. 2-ю Сводную казачью дивизию,
которой я командовал около двух лет и с
которой был почти все время в боях,
сменила на позиции под Пинском 172-я
пехотная дивизия, и ее отвели в тыл, на
отдых. Я тогда же решил подать рапорт об
увольнении меня в отставку. Новые порядки,
введенные Временным Правительством,
отсутствие какой бы то ни было власти у
начальников, передача в руки комитетов
всех полковых дел быстро расшатывали
армию. Пока дивизия стояла на позиции в
непосредственной близости к неприятелю,
она держалась. Наряд исполнялся
правильно, офицеров слушались, форму
одежды соблюдали. 10 апреля к нам в дивизию
приезжал кн. Павел Долгоруков, член к.-д.
партии. Он смотрел собранную для этого
случая Донскую бригаду – 16-й и 17-й Донские
полки – и сказал весьма патриотическую
речь. На речь отвечали я и ген. Черячукин,
а затем один урядник 16-го полка, который
от имени казаков клялся, что казачество
не положит оружия и будет драться до
последнего казака с немцами, – до общего
мира в полном согласии с союзниками. Кн.
Павел Долгоруков ездил со мною в окопы,
занятые пластунским дивизионом. Он
присутствовал при смене пластунов с
боевого участка, видел их жизнь в окопах и
был поражен их выправкою, чистотою одежды,
молодцеватыми ответами и знанием своего
дела. Все это он мне высказал в самой
лестной форме и потом задумчиво добавил: –
"Если бы это было так во всей армии!.."
– "А что?" – спросил я. Мы на позиции
были далеки от жизни. В гости к нам никто
не приезжал, письма политики не касались,
газеты были старые. Мы верили, что великая
бескровная революция прошла, что
Временное Правительство идет быстрыми
шагами к Учредительному Собранию, а
Учредительное Собрание – к
конституционной монархии с в. кн.
Михаилом Александровичем во главе. На
Совет Солдатских и Рабочих Депутатов
смотрели, как на что-то вроде нижней
палаты будущего парламента.
– Я видел московский гарнизон, – сказал кн.
Долгоруков. – Он ужасен. Никакой
дисциплины. Солдаты открыто торгуют
форменною одеждою и дезертируют. Армия
вышла из повиновения. Спасти может только
наступление и победа. – "И наступление
не спасет, – отвечали, – потому что такая
армия победы не даст".
Я
помню, что тогда же меня спросили, как я
смотрю на переход в наступление
революционными войсками, с комитетами во
главе. Я ответил, что, как русский человек,
я очень хотел бы, чтобы оно завершилось
победою, но, как военному, сорок лет
верившему в незыблемость принципов
военной науки, мне будет слишком больно
сознавать, что я сорок лет ошибался.
Как
только казаки дивизии соприкоснулись с
тылом, они начали быстро разлагаться.
Начались митинги с вынесением самых
диких резолюций. Требования отклонялись,
но казаки сами стали проводить их в жизнь.
Казаки перестали чистить и регулярно
кормить лошадей. О каких бы то ни было
занятиях нельзя было и думать. Масса в
четыре с лишним тысячи людей, большинство
в возрасте от 21 до 30 лет, т. е. крепких,
сильных и здоровых, притом не втянутых в
ежедневную тяжелую работу, болтались
целыми днями без всякого дела, начинали
пьянствовать и безобразничать. Казаки
украсились алыми бантами, вырядились в
красные ленты и ни о каком уважении к
офицерам не хотели и слышать. – "Мы сами
такие же, как офицеры, – говорили они, – не
хуже их".
Потребовать
и восстановить дисциплину было
невозможно. Все знали, – потому что многие
казаки были этому очевидцами, – что
пехота, шедшая на смену кавалерии, шла с
громадными скандалами. Солдаты
расстреляли на воздух данные им патроны,
а ящики с патронами побросали в реку
Стырь, заявивши, что они воевать не желают
и не будут. Один полк был застигнут
праздником пасхи на походе. Солдаты
потребовали, чтобы им было устроено
разговенье, даны яйца и куличи. Ротные и
полковой комитет бросились по деревням
искать яйца и муку, но в разоренном войною
Полесье ничего не нашли. Тогда солдаты
постановили расстрелять командира полка
за недостаточную к ним заботливость.
Командира полка поставили у дерева и
целая рота явилась его расстреливать. Он
стоял на коленях перед солдатами, клялся
и божился, что он употребил все усилия,
чтобы достать разговенье, и ценою
страшного унижения и жестоких
оскорблений выторговал себе жизнь. Все
это осталось безнаказанным, и казаки это
знали.
Меня
на ст. Видибор 4 мая на глазах у эшелонов 16-го
и 17-го Донских полков арестовали солдаты
и повели под конвоем со стрельбою вверх в
Видиборский комитет. Там меня обвинили в
том, что я принадлежу к числу тех
генералов, которые ради помещиков и
иностранных капиталистов настаивают на
продолжении войны (Обвинение было вполне
основательным. Хотя несколько дальше
Краснов и говорит о своем стремлении "как
можно скорее заключить мир", но дело
здесь, разумеется, не в особливом
генеральском миролюбии и не в неприязни к
помещикам и иностранным капиталистам, а в
растущем страхе перед вышедшей из
подчинения и не желающей воевать армией. Ред).
Одним из обвинителей был казак 17-го
Донского казачьего полка Воронков. Потом
меня под конвоем же отправили в Минск, где
меня должен был судить какой-то трибунал
при армейском комитете. На мое заявление,
что есть начальство, которое, если я в чем
виноват, будет меня судить, и что никто не
смеет меня задерживать при исполнении
служебных обязанностей, – мне нагло было
заявлено, что единственное начальство,
которое они признают, это – местный
Видиборский комитет, а на
главнокомандующего им плевать. Комитет
выше главнокомандующего. В Минске, однако,
мои конвойные растерялись, дали мне
возможность повидать коменданта станции,
передать о всем случившемся в штаб
Западного фронта, меня доставили к
главнокомандующему фронтом ген. Гурко,
который меня сейчас же освободил и
отправил к дивизии.
Все
это осталось без наказания. Стоило только
начальству возбудить какое-либо дело
против солдата, как на защиту его
поднимались комитеты. В ротах собирались
митинги, солдатская масса волновалась и
начальство испуганно бросало дело.
Ясно
было, что армии нет, что она пропала, что
надо как можно скорее, пока можно,
заключить мир и уводить и распределять по
своим деревням эту сошедшую с ума массу. Я
писал рапорты вверх; вверху ближайшее
строевое начальство – командир корпуса,
те, кто имеет непосредственное отношение
к солдату, встречали их сочувствием, но
выше, в штабе особой армии – генерал
Балуев, в военном министерстве, во главе
которого стал А. Ф. Керенский, к ним
относились скептически.
Я
горячо любил свою дивизию, свидетельницу
стольких славных побед. Я стал собирать
офицеров, комитеты и казаков, вести с ними
горячие страстные беседы, возбуждая в них
прежнее полковое и войсковое самолюбие,
напоминая о великом прошлом и требуя
образумиться.
– "Правильно! правильно!" – раздавались голоса, толпа как будто бы
понимала и сознавала ошибки свои, хотела
становиться на правильный путь, но уходил
я, раздавался чей-нибудь бесшабашный
голос: "Товарищи! Это что же? генерал-то
нас к старому режиму гнет! Под офицерскую,
значит, палку!" – и все шло прахом.
В
голове все решили, что война кончена. – "Какая нонче война?
– нонче свобода!"
Я поехал в штаб особой армии настаивать
на отставке.
Однако,
командующий армией, генерал Балуев, моей
отставки не принял, основываясь на
приказе Керенского никого из лиц
командного состава от службы не
увольнять, но понявши, что мне оставаться
в дивизии, где авторитет мой был
поколеблен, нельзя, предложил мне принять
в командование 1-ю Кубанскую дивизию.
10
июня я прибыл в дивизию, расположенную в
окрестностях города Мозыря.
II. В
1-й Кубанской казачьей дивизии. Казачьи
настроения.
1-я
Кубанская казачья дивизия была
второочередная, составленная
преимущественно из казаков старших
сроков службы. Она сильно пострадала
вследствие бескормицы и плохого
снабжения. Люди были оборваны. Много было
босых. Лошади истощали до такой степени,
что лежали и не могли подняться. Казаки
голодали. Такое очень тяжелое положение
было весьма выгодным для меня.
Заботливостью об улучшении
материального состояния дивизии я
надеялся привлечь сердца казаков к себе и
восстановить порядок и дисциплину.
Надо
отдать справедливость, – все мне пошли
навстречу в этом деле. Командующий армией
приказал отпустить вне очереди сапоги,
шаровары, рубахи и шинели для казаков,
довольствие было улучшено, Мозырьское
земство и окрестные помещики приложили
все усилия, чтобы дать наилучшее
размещение полкам и выкормить лошадей. От
Кубанского войска удалось добиться
пополнений.
Эти
хозяйственные заботы отвлекали казаков
от пустой митинговой болтовни, и дивизия
имела серьезный, домовитый,
хозяйственный вид. Сотенные и полковые
комитеты совещались с офицерами, как
лучше, экономичнее и богаче одеть и
снабдить казаков. Когда же снабжение
начало приходить, а лошади поправляться и
делаться сытыми, я почувствовал, что
между мною и полками установилась та
связь, которая до некоторой степени
походила на дисциплину.
До
революции и известного приказа № 1 каждый
из нас знал, что ему надо делать как в
мирное время, так и на войне. День был
расписан по часам, офицеры и казаки
заняты, ни скучать, ни тосковать было
некогда. Когда стояли в тылу "на отдыхе",
тогда постепенно, после исправления всех
материальных погрешностей, начинали
занятия, устрагивали спортивные
праздники и состязания, к которым нужно
было готовиться, солдатские спектакли,
пели песенники и играли трубачи, – день
был полон, он нес свои заботы и свое
утомление, полковая машина вертелась и
каждый что-нибудь да делал. Лодыри
преследовались и наказывались. Лущить
семечки было некогда. После революции все
пошло по иному. Комитеты стали
вмешиваться в распоряжения начальников,
приказы стали делиться на боевые и не
боевые. Первые сначала исполнялись,
вторые исполнялись по характерному,
вошедшему в моду тогда выражению – постольку поскольку. Безусый, окончивший
четырехмесячные курсы, прапорщик, или
просто солдат, рассуждал, нужно или нет то
или другое учение, и достаточно было,
чтобы он на митинге заявил, что оно ведет
к старому режиму, чтобы часть на занятие
не вышла и началось бы то, что тогда очень
просто называлось эксцессами. Эксцессы
были разные – от грубого ответа до
убийства начальника, и все сходили
совершенно безнаказанно.
Дивизия
принимала сытый и довольный вид, и было
нужно ее занять. Но начать занятия надо
было очень осторожно. Я решил повести их
двух видов – беседы и маневры в поле.
Беседы я вел лично с офицерами и чинами
комитетов, а те передавали их в сотнях.
Казаков больше всего интересовали
вопросы "данного политического
момента" и, конечно, земля, земля и
земля... Вот эти-то вопросы и пришлось
затронуть и притом настолько осторожно,
чтобы не обратить беседу в митинг, что
было недопустимо, потому что подорвало бы
дисциплину. Офицеры явились для меня
великолепными помощниками. Я начал с
объяснения различного устройства
государств и образа правлений. Я слышал,
как казаки совершенно серьезно говорили
о республике с царем, или о монархии, но
без царя, и т. п. Потом я изложил программы
политических партий, цели настоящей
войны, рассказал о значении Босфора и
Дарданелл, что особенно должно было
заинтересовать кубанцев, ведущих
торговлю хлебом с Марселью, вкратце
изложил историю казачества и значение
казаков для России, показал на
примитивных, от руки сделанных чертежах
взаимное соотношение казачьих войск и
доказал географическую невозможность
создания самостоятельной казачьей
республики, о чем мечтали многие горячие
головы даже и с офицерскими погонами на
плечах.
Говорил и о патриотизме, о победе – и,
казалось, увлек казаков. Митинги с
истеричными речами прекратились и
сменились тихими, разумными беседами с
офицерами; беседы эти нравились казакам.
Сколько я мог судить, большинство
склонялось к тому, чтобы Россия была
конституционной монархией или
республикой, но чтобы казаки имели
широкую автономию. Очень остро ставился
земельный вопрос, но и тут принципы
кадетской программы имели перевес. "Так
– дескать – будет прочнее и вернее".
Маневры,
которые я вел параллельно с беседами и
делал не утомительными (2 – 6 часов)
вначале тоже нравились, по тут к великому
огорчению своему я наткнулся на
отрицание войны. Война шла кругом. В
двадцати верстах от нас была позиция.
Очень редкий, правда, орудийный огонь был
слышен на наших биваках, когда мы перешли
в селение Тростянец. Мы знали, что на юге
было наступление, руководимое Корниловым
и Керенским и закончившееся позорным
бегством наших, но тем не менее, когда на
маневрах я обучал резать проволоку,
метать ручные гранаты, врываться в окопы,
а потом бросаться в конном строю в
преследование, – я слышал разговоры, что
"нам этого делать не придется. Война
кончена!"
Она
шла кругом, но революция так сильно
потрясла души казаков, что в них уже не
укладывалась с понятием о гражданской
свободе необходимость сражаться и
умирать за родину. И это было ужасно.
На
душе у меня было смутно. Глубоко зная
казака и солдата, с которым прожил одною
жизнью 34 года, я чувствовал, что все это
непрочно. Это было баловство – игра в
солдатики. Настанет час великого
испытания, заскрежещут и завоют в небе
снаряды, налетят с бомбами аэропланы,
запоют пули, – и никакими разговорами,
никакими беседами я не заставлю их идти
вперед, все разбежится и исчезнет,
предавши офицеров. Не было страха перед
неисполнением приказа, или команды, того
страха, который, – странное дело, – сильнее страха смерти. Не было совести и
стыда. Я вспоминал, как раньше того, что я
шел сзади цепей и покрикивал: "Вперед!
Вперед! Ничего!
Вперед!" – было достаточно, чтобы командуемый мною
полк бросился на штурм укрепленной
позиции. А бросились бы эти? – спрашивал я,
глядя на них, мокнущих на походе под
дождем. Я видел недовольные, злые лица, и
отвечал: нет, не бросились бы. Раньше
солдату или казаку стыдно было показать,
что он голоден, страдает от жары или
холода, или промок, – при пропускании
колонны мимо себя я видел в таких случаях
веселые, как бы над самими собою
смеющиеся лица, и на вопрос: "что,
холодно?" – слышал веселый, бодрый
ответ: – "никак нет!", иногда
сопровождаемый острой солдатской шуткой.
Теперь этого не было. Всякое лишение,
всякое неудобство вызывало косые,
мрачные взгляды. Они стали "барами",
"господами", они искали комфорта и
радости жизни, а это уже не солдаты и не
казаки.
Я
переживал ужасную драму. Смерть казалась
желанной. Ведь рухнуло все, чему молился,
во что верил и что любил с самой колыбели
в течение пятидесяти лет, – погибла армия.
И
все-таки надеялся. Думал, что постепенно
окрепнет дивизия, вернется былая удаль, и
мы еще сделаем дела и спасем Россию от
иноземного порабощения.
Больше
всего я боялся тогда, что казаков станут
употреблять на различные усмирения
неповинующихся солдат. Ничто так не
портит и не развращает солдата, как война
со своими, расстрелы, аресты и т. п. Бывая у
своего командира корпуса генерал-лейтенанта
Я. Ф. Гилленшмидта, я постоянно просил его
поберечь в этом отношении дивизию и не
посылать ее с карательными целями.
Просьба
была не напрасная. По всей армии пехота
отказывалась выполнять боевые приказы и
идти на позиции на смену другим полкам,
были случаи, когда своя пехота запрещала
своей артиллерии стрелять по окопам
противника под тем предлогом, что такая
стрельба вызывает ответный огонь
неприятеля. Война замирала по всему
фронту, и Брестский мир явился неизбежным
следствием приказа № 1 и разрушения армии.
И если бы большевики не заключили его, его
пришлось бы заключить Временному
Правительству.
В
тылу, в глухой деревне, вдали от железной
дороги, где я жил, мы очень мало знали о
том, что происходит в России. Смутно
слышали, что верховный главнокомандующий
Корнилов требует полного восстановления
дисциплины в армии, возвращения офицерам
и урядникам прежней дисциплинарной
власти, восстановления полевых судов и
смертной казни за целый ряд преступлений.
Это было приказано объявить в полках.
Собранные мною с этою целью офицеры и
полковые комитеты дивизии разно
восприняли это известие. Офицеры
радовались этому, потому что видели в
этом возрождение армии и ее
боеспособности, солдаты и казаки
повесили головы.
– Это значит, опять к старому режиму, – печально говорили казаки.
– Значит,
прощай свобода! Не отдал чести али коня не
почистил, как следует, и становись в
боевую!
Солдаты
встревожились еще решительнее.
– Этому не бывать. Корнилов того хочет, а мы
не хотим. Довольно!
Имя
Корнилова становилось популярным в
офицерской среде, офицеры ждали от него
чуда – спасения армии, наступления,
победы и мира, – потому что понимали, что
продолжать войну уже больше нельзя, но и
мир получить без победы тоже нельзя. Для
солдат имя Корнилова стало равнозначащим
смертной казни и всяким наказаниям.
Корнилов хочет войны, – говорили они, – а
мы желаем мира.
Но
о том, что Корнилов ради спасения России
хочет захватить власть в свои руки, что он
хочет стать диктатором, – никто не думал.
Об
июльских днях в Петрограде и попытке
большевиков захватить власть мы знали
мало. "Были беспорядки", – говорили в
дивизии, и больше интересовались тем, кто
убит и ранен, так как были между ними и
знакомые, но о роковом значении
начавшейся борьбы за власть во время
войны мы не думали. Слишком были заняты
своими злободневными текущими делами.
И
потому, когда 24 августа я получил от
генерал-майора Д. П. Сазонова, бывшего
помощника походного атамана в. кн. Бориса
Владимировича, телеграмму; "Наштаверх
приказал представить вас назначению
коман-кор. третьего конного. Будьте
готовы по телеграмме выехать к корпусу.
Прощу заехать ставку", – она меня
только удивила. По имевшимся у меня
частным сведениям, III
кавалерийский корпус, которым командовал
генерал Крымов, находился где-то в
Херсонской губернии, в районе города
Ананьева, и ехать в него через ставку мне
было совсем не по пути. О том, что III
кавалерийский корпус уже перебрасывался
к Петрограду, мы в своей деревенской
глуши и не подозревали.
Но,
прежде чем отправиться в ставку, мне
пришлось пережить несколько тяжелых
часов и убедиться в том, что я не ошибся,
считая, что полки моей дивизии уже
неспособны выдержать сколько-нибудь
сильное испытание.
III. Бунт
3-й пехотной дивизии. Убийство комиссара
Юго-Западного фронта Ф. Ф. Линде.
В
ту же ночь, 24 августа, мне лично из штаба
корпуса было передано по телефону, что
полки пехотной дивизии, стоявшей на
позиции у селения Духче в 18 верстах от
моего штаба, отказываются исполнять
боевые приказы по укреплению позиции, что
ими руководит несколько весьма
зловредных агитаторов, которых надо
изъять из ее рядов. На переданное
требование выдать этих агитаторов
солдаты 444-го пехотного полка ответили
отказом. Надо их заставить выдать.
Командир корпуса считает, что достаточно
будет назначить один полк с пулеметной
командой.
Я
назначил 2-й Уманский полк, лучше других
обмундированный, внешне выправленный, а
главное, ближе расположенный к селению
Духче. С полком, кроме командира полка
полковника Агрызкова, пошел и командир
бригады, смелый и решительный кавказец
генерал-майор Мистулов.
Было
решено, что мы придем в Духче с музыкой и
песнями.
Когда
полк тронулся, я спросил у командира
полка:
"Как
настроение казаков?" Увы, в эти ужасные
дни приходилось задавать этот, такой
дикий полгода тому назад вопрос о
настроении, как справляются о настроении
капризной женщины или больного.
– Ничего, – отвечал мне Агрызков. – Я думаю,
свое дело сделают. Офицеры хорошо с ними
говорили.
В
10 час. утра мы прибыли в селение Духче, где
нас ожидал начальник пехотной дивизии
ген. лейт. Гиршфельдт. Он направил казаков
к пехотному биваку, приказавши окружить
его со всех сторон, оставив одну сотню в
его распоряжении. Вид уманцев,
проходивших с музыкой и песнями, привел
его в восторженное умиление. Смотревшие
на казаков писаря и чины команды связи
дивизии тоже видимо были поражены их
видом и отзывались о казаках с одобрением.
– Настоящее войско! – говорили они. – Значит,
есть, сохранилось!..
Я
остался в штабе с Гиршфельдтом ожидать
комиссара Линде. Если я не ошибаюсь, Линде
был тот самый вольноопределяющийся л. гв.
финляндского полка, который 20 апреля
вывел полк из казарм и повел его к
Мариинскому дворцу требовать отставки
Милюкова.
Около
11 час. утра на автомобиле из Луцка приехал
комиссар фронта Ф. Ф. Линде. Это был совсем
молодой человек. Манерой говорить с ясно
слышным немецким акцентом, своим отлично
сшитым френчем, галифе и сапогами с
обмотками, он мне напомнил самоуверенных
юных немецких барончиков из
прибалтийских провинций, студентов
Юрьевского университета. Всею своею
молодою, легкою фигурою, задорным тоном,
каким он говорил с Гиршфельдтом, он
показывал свое превосходство над нами,
строевыми начальниками.
– Ну, еще бы, – говорил он, манерно морщась,
на доклад Гиршфельдта, что все его
увещания не привели ни к чему, и виновные
все еще не выданы. – Они вас никогда не
послушают. С ними надо уметь говорить. На
толпу надо действовать психозом.
Виновный
444-й полк был расположен в дивизионном
резерве на небольшой лесной прогалине.
Часть землянок была на прогалине, часть
теснилась по краям прогалины в. самом
лесу. С прогалины шло две дороги. Одна – на
деревню Духче, другая – через болотистую
часть на позицию, которая была занята 443-м
пехотным полком.
Когда
мы подъезжали, казаки уже окончили
окружение бивака 444-го полка. Они
выставили заставу с пулеметами по
направлению к позиции. Они сидели на
лошадях с обнаженными шашками и, казалось,
готовы были ринуться на пехоту.
Командир
пехотного полка встретил нас у края
бивака и сообщил, что солдаты очень
напуганы появлением казаков и собираются
поротно, ружей не разбирают. Зачинщики
ему названы.
Гиршфельдт
и Линде вышли из автомобиля. Я и Мистулов
сошли с лошадей и следовали пешком в
некотором отдалении за Линде и
Гиршфельдтом.
– Вот вторая рота (если память мне не
изменяет), – сказал командир полка. – Она –
главная зачинщица всех беспорядков"
Линде
вышел вперед. Лицо его было бледно, но
сильно возбуждено. Он оглянул роту
гневными глазами, и сильным, полным
возмущения голосом начал говорить. Я
почти дословно помню его речь.
– Когда ваша родина изнемогает в
нечеловеческих усилиях, чтобы победить
врага, – отрывисто, отчетливо, – говорил
Линде, и его голос отдавало лесное эхо, – вы позволили себе лентяйничать и не
исполнять справедливые требования своих
начальников. Вы – не солдаты, а сволочь,
которую нужно уничтожить. Вы – зазнавшиеся хамы и свиньи, недостойные
свободы. Я, комиссар Юго-Западного фронта,
я, который вывел солдат свергнуть царское
правительство, чтобы дать вам свободу,
равной которой не имеет ни один народ в
мире, требую, чтобы вы сейчас же мне
выдали тех, кто подговаривал вас не
исполнять приказ начальника.
Иначе
вы ответите все. И я не пощажу вас!
Тон
речи Линде, манера его говорить и
начальственная осанка сильно нс
понравились казакам. Помню, потом мой
ординарец, урядник, делясь со мною
впечатлениями дня, сказал: "Они,
господин генерал, сами виноваты. Уже
очень их речь была не демократическая".
Koгдa
Линде замолчал, рота стояла бледная,
солдаты тяжело дышали. Видимо, они не того
ожидали от "своего" комиссара.
– Ну, что же! – грозно сказал Линде и пошел
вдоль фронта.
Командир
полка стал вызывать людей по фамилиям. Он
уже знал зачинщиков. Выходившие были
смертельно бледны, тою зеленоватою
бледностью, которая показывает, что
человек уже не L?
себе. Это били люди большею частью
молодые, типичные горожане, может быть,
рабочие, вернее, люди без определенных
занятий. Их набралось двадцать два
человека.
Один
из вызванных начал что-то говорить. Линде
бросился к нему.
– Молчать! Сволочь! Негодяй! После
поговоришь...
– Возьмите их, – сказал он сопровождавшему
его казачьему офицеру.
– Не выдадим!.. Товарищи! что же это!.. – раздалось из роты, и несколько рук, сжатых
в кулаки, поднялось над фронтом.
Я
обернулся. Конная сотня, стоявшая шагах в
двадцати, грозно надвинулась, и люди
стихли.
– Ведите этих подлецов, и при малейшей
попытке к бегству – пристрелить, – сказал
Гиршфельдт казачьему офицеру.
– Понимаю, – хмуро ответил тот, скомандовал
арестантам и повел их, окруженных
казаками, из леса.
Дело
было сделано, настроение солдат было
очень возбужденное, квадраты батальонных
колонн, выстроившихся на лесной
прогалине, были грозны, и я подумал, что
хорошо будет, если Линде теперь же и уедет,
пока солдаты не поняли своей силы и
нашего бессилия. Я сказал это ему.
– Нет, генерал. Вы ничего не понимаете, –
сказал Линде. – Первое впечатление
сделано. Надо воспользоваться
психологическим моментом. Я хочу
поговорить с солдатами и разъяснить им их
ошибки.
Линде
и начальник дивизии генерал Гиршфельдт
сияли счастьем от первой удачи; какая-то
непреодолимая судьба несла их в самую
пасть опасности. Они уже никого не
слушались, и Линде полагал, вероятно, что
он овладел массой. Мне же было жутко на
него смотреть. По лицам солдат второй
роты я понял, что дело далеко не кончено,
что судом комиссара они недовольны. Я
приказал офицерам и урядникам разойтись
между солдатами и наблюдать за ними. Нас
было едва пятьсот человек, рассыпанных по
всему лесу. Солдат в 444-м полку было свыше
четырех тысяч, да много сходилось и из
соседних полков. Весь лес был серым от
солдатских рубах.
Линде
подошел к первому батальону. Он
отрекомендовался – кто он, и стал
говорить довольно длинную речь. По
содержанию это была прекрасная речь,
глубоко патриотическая, полная страсти и
страдания за родину. Под такими словами
подписался бы с удовольствием любой из
нас, старых офицеров. Линде требовал
беспрекословного исполнения приказаний
начальников, строжайшей дисциплины,
выполнения всех работ.
Говорил
он патетически, страстно, сильно, местами
красиво, образно, но акцент портил все.
Каждый солдат понимал, что говорит не
русский, а немец.
Кончив,
Линде, несмотря на протест командира
полка, хотевшего держать людей все время
в строю и под наблюдением, приказал
разойтись людям 1-го батальона и пошел
говорить со вторым. Люди первого
батальона разошлись по кучкам и стали
совещаться. Некоторые следовали за Линде,
и нас уже сопровождала порядочная толпа
солдат.
Ко
мне то и дело подходили офицеры 2-го
уманского полка и говорили:
– Уведите его. Дело плохо кончится. Солдаты
сговариваются убить его. Они говорят, что
он вовсе не комиссар, а немецкий шпион. Мы
не справимся. Они и на казаков действуют.
Посмотрите, что идет кругом.
Действительно,
подле каждого казака стояла кучка солдат
и слышался разговор.
Я
снова пошел к Линде и стал его убеждать.
Но убедить его было невозможно. Глаза его
горели восторгом воодушевления, он верил
в силу своего слова, в силу убеждения. Я
сказал ему все.
– Вас считают за немецкого шпиона, – сказал
я.
– Какие глупости, – сказал он. – Поверьте
мне, что это все – прекрасные люди. С ними
только никто никогда не говорил.
Было
около трех часов пополудни и сильно жарко.
Линде уже не говорил речей, но и он, и
генерал Гиршфельдт стояли в плотной
толпе солдат и отвечали на задаваемые им
вопросы. Вопросы эти были все наглее и
грубее. Из темной солдатской массы
выступали уже определенные лица, которые
неотступно следовали за Линде.
Для
того, чтобы изолировать казаков от
влияния солдат, я приказал собрать
оставшиеся четыре сотни на площадке,
приказал завести машину Линде и подать ее
ближе, и решительно вывел Линде из толпы.
– Вам надо уехать сейчас же, – строго сказал
я. – Я ни за что не отвечаю.
Линде
колебался. Лицо его было возбуждено, я
чувствовал, что он упоен собою, влюблен в
себя и верит в свою силу, в силу слова.
Машина
фыркала и стучала подле, заглушая наши
слова, шофер и его помощник сидели с
бледными лицами. Руки шофера напряженно
впились в руль машины.
– Хорошо, я сейчас поеду, – сказал Линде и
взялся за дверцу автомобиля. Я пошел
садиться на свою лошадь.
Но
в это мгновение к Линде подошел командир
полка. Он хотел еще более убедить его
уехать.
– Уезжайте, – сказал он, – 443-й полк снялся с
позиции и с оружием идет сюда. Он хочет с
вами говорить.
– Как, – воскликнул Линде, – самовольно
сошел с позиции? Я поеду к нему. Я поговорю
с ним. Я сумею убедить его и заставить
выдать зачинщиков этого гнусного дела.
Надо вынуть заразу из дивизии.
– Люди вооружены, – сказал командир полка.
– Я комиссар. Меня не тронут. Это мой долг,
– сказал он. – Ведь вы знаете, – сказал он
мне, – они обвиняют генерала Гиршфельдта
в том, что он продал немцам за 40.000 рублей
свою позицию. Как это глупо! За сорок
тысяч! Вечно нелепая басня об измене
генералов!
В
это время в лесу, в направлении позиции
раздалось несколько ружейных выстрелов.
Ко мне подскочил взволнованный казачий
офицер, начальник заставы, и растерянно
доложил:
– Ваше превосходительство, пехота
наступает на нас правильными цепями, в
строгом порядке. Я приказал пулеметчикам
открыть по ним огонь, но они отказались.
Я
передал этот доклад Линде и еще раз
просил его немедленно уехать.
– Но ведь это – уже настоящий бунт! – сказал
он. – Мой долг – быть там! Генерал, вы
можете не сопровождать меня. Я поеду один.
Меня не тронут.
– Мой долг ехать с вами, – сказал я, и тронул
свою лошадь рядом с автомобилем.
Толпа
тысяч в шесть солдат запрудила всю
прогалину, и ехать можно было очень тихо.
Впереди изредка раздавались выстрелы.
Вдруг
раздался чей-то отчаянный резкий голос,
покрывая общий гомон толпы.
– В ружье!..
Толпа
точно ждала этой команды. В одну секунду
все разбежались по землянкам и сейчас же
выскакивали оттуда с винтовками. Резко и
сильно, сзади и подле нас застучал
пулемет и началась бешеная пальба. Все
шесть тысяч, а может быть и больше, разом
открыли беглый огонь из винтовок. Лесное
эхо удесятерило звуки этой пальбы. Казаки
шарахнулись и понеслись к дороге и мимо
дороги на проволоку резервной позиции.
– Стой! – крикнул я. – Куда вы! С ума сошли!
Стреляют вверх!
– Сейчас вверх, а потом и по вас! – крикнул,
проскакивая мимо меня, смертельно
бледный мой вестовой Алпатов, уже
потерявший фуражку.
Полк,
мой отборный конвой, трубачи, – все
исчезло в одну секунду. Видна была только
густая пыль по дороге, да удаляющиеся там
и сям, упавшие с лошадей люди, которые
вскакивали и бежали догонять сотни.
Остался при Линде я, генерал Мистулов и
мой начальник штаба, генерального штаба
полковник Муженков. Но стреляли
действительно вверх, и у меня еще была
надежда вывести Линде из этого хаоса.
Автомобиль
повернули обратно, и мы поехали при громе
пальбы снова на прогалину мимо землянок.
Но в это время пули стали свистать мимо
нас и щелкать по автомобилю. Ясно, что
теперь уже автомобиль стал мишенью для
стрельбы.
Шоферы
остановили машину, во мгновение ока
выскочили из нее и бросились в лес. За
ними выскочили и Линде с Гиршфельдтом.
Гиршфельдт побежал в лес, а Линде
бросился в землянку. На спуске в землянку
какой-то солдат ударил его прикладом в
висок. Он побледнел, но остался стоять.
Видно удар был не сильный. Тогда другой
выстрелил ему в шею. Линде упал, обливаясь
кровью. И сейчас же все с дикими криками,
улюлюканьем бросились на мертвого. Мне
нечего было больше делать. Я с Мистуловым
и Муженковым рысью поехали из леса.
Выстрелы провожали нас. Однако стреляли,
не целясь. Много пуль свистало над нами,
но только одна ранила лошадь полковника
Муженкова.
За
лесом я стал нагонять пеших казаков. Они
то шли, то бежали, то ложились. Их было
человек двадцать. Сзади них шло два
офицера, и с ними генерал Гиршфельдт.
Недалеко
от Духче полковник Агрызков собирал полк.
Увидевши меня, он поскакал ко мне.
– Полк сильно расстроен, – доложил он. –
Половина людей не знаю где. Надо идти
домой, успокоить. Меня и вас грозят убить.
Говорят, что мы нарочно привели их в
западню, чтобы истребить.
– Вы лучше спросите меня, полковник, где
комиссар, которого охранять вы были
обязаны, – сухо сказал я ему.
– А где? – растерянно спросил Агрызков.
– Убит солдатами на моих глазах, – сказал я.
Агрызков тяжело вздохнул и поехал за мной.
Я направился к полку. Вид жидких сотен
казаков, растерянных и растрепанных,
многих, потерявших лошадей, был
безотраден. Я молча объехал ряды и сказал
Агрызкову: "Соберите полк в Духче и
ожидайте там приказаний".
После
этого я поехал в Духче. Там все было
спокойно. Я связался с командиром IV
кавалерийского корпуса телефоном и
доложил ему о происшествии. Командир
корпуса потребовал, чтобы я приехал
немедленно к нему, к нему же направил и
уманцев. Он был очень обеспокоен тем, что
произошло, и вызвал к штабу корпуса 2-й
полтавский полк и броневые машины.
В
Духче приехал генерал от инфантерии
Волкобой, командир армейского корпуса, в
который входила пехотная дивизия, и стал
совещаться с Гиршфельдтом о том, что
делать. Я поехал верхом в деревню Пожарки,
где был штаб IV
кавалерийского корпуса.
Уже
затемно, с Муженковым и двумя вестовыми я
приехал в Пожарки. На дворе господского
дома стояло две броневые машины. Среди
чинов штаба было волнение, носились слухи,
что вся 3-я пехотная дивизия сошла с
фронта и идет на Пожарки. Я рассеял эти
слухи, да и телефон из Духче скоро сообщил
нам иные, хотя и очень печальные, известия.
При
моем отъезде генерал Волкобой, считавший
себя любимцем солдат, почтенный старик с
седой бородой, типичный русский старик,
"дедушка", как звали его солдаты,
убедил Гиршфельдта поехать в дивизию без
конвоя и уговорить солдат повиноваться.
Они поехали вдвоем на лесную прогалину.
Там их окружила толпа солдат. Солдаты
прежде всего потребовали освобождения
арестованных. Волкобой тут же приказал их
отпустить. Потом схватили Гиршфельдта,
повели его в лес, раздели, привязали к
дереву, истязали и надругались над ним,
после чего убили. Волкобой убежал в
землянку, плакал и умолял пощадить его в
уважение к его сединам. Солдаты со смехом
выволокли его из землянки, посадили в
автомобиль и, окружив издевавшимися над
ним солдатами, отвезли в штаб его корпуса.
Вместе
с Гиршфельдтом был убит командир полка и
еще один офицер. Убийства, наступающая
темнота, лес, – все подействовало
отрезвляюще на солдат, и они тихо ушли на
позицию и решили сидеть на ней и никуда не
уходить.
Ночью
полковник Агрызков, убедившись в плохом
настроении казаков 2-го уманского полка,
увел их за реку Стырь на свои квартиры. В
полку никто не был убит. Было помято
лошадьми несколько казаков, да несколько
лошадей покалечилось на проволоках во
время безумного бегства. Полтавцы,
переговоривши с уманцами, постановили,
что они на верную смерть не пойдут. Таким
образом, в несколько часов была разрушена
вся та работа по приобретению доверия,
которую я делал три месяца.
В
штаб корпуса ночью прибыл помощник
комиссара Линде из Луцка и
исполнительный комитет совета
солдатских и рабочих депутатов гор. Луцка,
– они утром хотели ехать творить суд и
расправу над виновниками убийства Линде
и Гиршфельдта. В штабе же находился
войсковой старшина Хоперсков, командир
пластунского (не из казаков, а из солдат)
дивизиона бывшей моей 2-й казачьей
сводной дивизии и комитет дивизиона. Они
явились по личному почину предложить
командиру корпуса свои услуги по охране
штаба корпуса и восстановлению порядка
на позиции.
Утром
предполагалось начать разведку и
приступить к смене частей 3-й дивизии с
позиции для отвода ее в тыл. Но мне уже не
пришлось принимать в этом участия. В ночь
на 26 августа пришла из ставки верховного
главнокомандующего телеграмма,
подписанная Корниловым. Я был назначен
командиром III
конного корпуса, и Корнилов требовал
моего немедленного прибытия в ставку.
26
августа я уехал из дер. Пожарки и в тот же
день сдавши дивизию генералу Колесникову
и отправив своих лошадей, ночью поехал на
станцию Киверцы, чтобы ехать в Могилев.
оглавление
продолжение
|