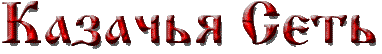|
П.
Н. КРАСНОВ.
На внутреннем фронте
VII.
В
Пскове.
На
станцию Псков поезд пришел в 12 часов ночи
на 30 августа. Пассажирам было заявлено,
что поезд дальше не пойдет. Опять та же
история: полотно дороги разрушено,
движения поездов нет. Так же, как станция
Дно была переполнена офицерами и
всадниками кавказской туземной дивизии,
станция Псков была переполнена офицерами
и солдатами приморского драгунского
полка и солдатами псковского гарнизона.
Я
стал расспрашивать у офицеров об
обстановке.
– Где ген. Крымов?
– Утром уехал на Лугу; должно быть, сейчас
там. Имея указания от ген. Корнилова
соединиться возможно скорее с Крымовым и
принять от него командование III
конным корпусом, я пошел к коменданту
станции просить отправить меня на
паровозе или на дрезине в Лугу.
Измученный, усталый комендант отнесся к
моей просьбе с полным участием, но
сослался на категорическое приказание
штаба фронта ни одного человека не
пропускать в петроградском направлении.
Нужно разрешение штаба фронта.
– Дайте мне телефон штаба, я буду говорить с
ген. Кдембовским, – сказал я.
– Ген. Клембовского нет.
– Где же он?
– Поехал в Петроград. Он назначен верховным
главнокомандующим.
– А Корнилов? – невольно спросил я.
– Не знаю. Или бежал, или арестован. Вы
читали приказ Керенского, объявляющий
его изменником?
– Читал. Но что из этого?
Впрочем,
подумал я, комендант мог ничего не знать.
Это могла быть и провокация.
Мне
дали соединение со штабом фронта.
– Кто меня спрашивает? – услышал я голос.
– А позвольте спросить, кто у телефона, –
спросил я, – все еще надеясь что это
Клембовский.
– Временно командующий северным фронтом
ген. Бонч-Бруевич, а вы кто? Я назвал себя.
– Я прошу вас сейчас приехать ко мне. Мне
нужно с вами переговорить. Я посылаю за
вами автомобиль, – сказал мне Бонч-Бруевич.
Через
полчаса я был принят Бонч-Бруевичем в
присутствии молодого человека с бледным
лицом и с черными усиками, в рубашке с
солдатскими защитными погонами.
– Комиссар Савицкий, – кинул мне Бонч-Бруевич,
– мы будем говорить при нем. Какие вы
задачи имеете?
Я
ответил, что имею приказание явиться к
генералу Крымову и никаких больше задач
не имею.
– Ген. Крымов, – как-то загадочно проговорил
Бонч-Бруевич, – находится в Луге, а
пожалуй что теперь и в Петрограде. Вам
незачем ехать к нему. Оставайтесь лучше
здесь.
– Я получил приказание, и я должен его
исполнить. Я должен принять от него
корпус и распутать ту путаницу, которая в
нем происходит.
– А в чем вы видите путаницу? – спросил Бонч-Бруевич.
Комиссар, присутствовавший здесь, меня
стеснял, да и сам Бонч-Бруевич казался мне
подозрительным. Я вскользь сказал о том,
что эшелоны застряли на путях, люди и
лошади голодают и дальше это не может
продолжаться, так как грозит
уничтожением конскому составу и может
вызвать голодных людей на грабежи.
– Я с вами совершенно согласен, – сказал мне
Бонч-Бруевич. – Мы об этом с вами
поговорим утром.
– Я буду вас просить дать мне автомобиль до
Луги.
– К сожалению, не могу исполнить вашей
просьбы. У нас все машины – городского
типа и не выдержат дороги, да и бензина
нет.
Я
видел, что Бонч-Бруевич лгал. Не могло же
не быть в штабе фронта нескольких полевых
машин, да до Луги и городская машина могла
довезти. Я попрощался с Бонч-Бруевичем и
пошел проводить остаток ночи в
комендантское управление. Сидя в комнате
дежурного адъютанта, я обдумывал, что же
делать? Первое, что мне казалось
необходимым, – восстановить части. Вынуть
их из коробок, поставить по деревням или
на биваке и накормить людей и лошадей..
Все равно, с голодными людьми и на не
кормленных лошадях далеко не уедешь.
Утром
30 я отправился к Бонч-Бруевичу.
Повидимому, за ночь он получил какие-либо
известия о проказах казаков на путях,
потому что начал с того, что спросил у
меня совета, что делать с эшелонами,
которые загромоздили все пути,
остановили движение по железной дороге и
прекратили подвоз продовольствия на
фронт. Я предложил сосредоточить
уссурийскую дивизию в районе Везенберга,
пользуясь тем, что она эшелонирована на
путях, идущих к Нарве и Ревелю, и донскую –
в районе Нарвы. Этим совершенно
разгружалась бы варшавская дорога, а я
имел весь корпус в кулаке и на путях к
Петрограду, так что по соединении с
Крымовым мог исполнить ту задачу, которая
будет указана корпусу.
Ген.
Бонч-Бруевич составил при мне телеграмму,
которую адресовал: "главковерху
Керенскому".
– Вы видите, – сказал он, – продолжать то,
что вам, вероятно, приказано и что вы
скрываете от меня, вам не приходится,
потому что верховный главнокомандующий –
Керенский, вот и все.
Я
ушел. И все-таки я считал своим долгом
отыскать Крымова, своего
непосредственного начальника. От Бонч-Бруевича
я пошел в гараж попросить автомобиль, но
получил там отказ: машины испорчены, нет
бензина. Полк. Зарубаев, заведовавший
гаражом, сообщил мне, что какой-то
американский корреспондент, имеющий
собственный автомобиль, едет в пять часов
в Лугу, чтобы наблюдать бой между
корниловскими войсками и петроградским
гарнизоном, и что он устроит меня с ним. Я
ухватился за это. Известие, что бой все-таки
ожидается, говорило мне, что, может быть,
не все еще потеряно и что сведения Бонч-Бруевича
умышленно неверные.
В
комендантском управлении меня ожидал
полевой жандарм из штаба
главнокомандующего.
– Главнокомандующий приказал мне
озаботиться отводом вам квартиры, – сказал он.
Такая
заботливость о моей персоне меня удивила.
– Где же мне отвели квартиру? – спросил я.
– В кадетском корпусе, я сейчас вас туда
могу отвезти. Оставаться в дежурной
комнате комендантского управления было
нельзя, я стеснял адъютанта. Я забрал свои
вещи и с своим ординарцем и сотником
Генераловым отправился в корпус.
На
входной двери квартиры, в которую меня
вводили, было написано: "Комиссариат
северного фронта". В прихожей
толпились солдаты и какие-то люди
подозрительного вида.
– Вероятно, вы ошиблись, – сказал я жандарму,
– здесь помещение комиссариата.
– Ничего, они обещали потесниться.
Действительно,
ко мне вышел Савицкий и сказал, что я могу
здесь располагаться. Какой-то
предупредительный и весьма обязательный,
хорошо одетый юноша пошел показать мне
мою комнату. Это была большая комната в
два окна, выходящие во внутренний сад. В
комнате стояла прекрасная мягкая постель,
так и манившая к покою после двух
бессонных ночей.
– Вот здесь электричество, – показывал мне
юноша. – Можно стол поставить, стулья.
Очень хорошо.
– Комната отличная, – в раздумье сказал я.
Меня поразил гул солдатских голосов и как
будто стук ружей за дверью. Я открыл дверь.
За дверью была просторная прихожая. Она
наполнялась вооруженными солдатами.
– Вы что за люди? – спросил я их.
– Так что, господин генерал, караул к
арестованному, – бойко ответил мне бравый
унтер-офицер.
– Благодарю вас, – сказал я любезному юноше,
– но комната мне что-то не нравится. В ней
будет слишком шумно, а мне надо
заниматься.
И
я спокойно прошел мимо караула, вышел во
двор, а из двора на улицу, где еще стоял
извозчик с моим чемоданом.
Куда
ехать? Куда ехать? – думал я.
Утомление
сказывалось, а силы были нужны на завтра,
чтобы ехать верхом или идти пешком. Мне
предложил переночевать у него тот самый
комендантский адъютант поручик
Пилипенко, которого я так стеснял. Он имел
комнату на окраине города недалеко от
вокзала.
К
9 часам вечера, подготовивши все для
поездки верхом на лошадях уральских
казаков в Лугу, я перебрался к поручику
Пилипенко. Около 12-часов ночи мы улеглись
на покой в гостиной. Благодетель-сон
сейчас же прогнал все думы, заботы,
тревоги и волнения.
Но
недолго он продолжался.
Сильные
непрерывные звонки у входной двери меня
разбудили. Я зажег свечу и посмотрел на
часы. Был час ночи. Я спал меньше часа. Я
сейчас догадался в чем дело, но продолжал
лежать, нарочно не вставая. Прислуга
хозяйки зашлепала босыми ногами. В дверь
стали раздаваться удары прикладами. Она
отворилась, и прихожая наполнилась
большим количеством людей, грозно
стучавших ружьями. Они не помещались в
прихожей и часть стучала винтовками по
лестнице.
В
гостиную стали входить, стуча прикладами,
юнкера школы прапорщиков северного
фронта, с ними был их офицер и какой-то
молодой человек в штатском платье.
– Вы – генерал Краснов? – обратился
штатский ко мне.
– Да, я генерал Краснов, – отвечал я,
продолжая лежать. – А вам что от меня
нужно?
– Господин комиссар просит вас немедленно
прибыть к нему для допроса, – отвечал он,
Было
решено, что мы поедем с молодым человеком
на извозчике, а юнкера пойдут по домам. Во
втором часу мы молча поехали по городу.
Ехал вооруженный шашкой и револьвером
генерал и с ним штатский. Ничего
подозрительного. Возвращались, может
быть, с какой-нибудь пирушки. Город был
тих и пустынен. Мы никого не встретили.
Если бы я хотел бежать, я мог бы бежать
сколько угодно. Но я бежать не хотел.
VIII.
На
допросе у комиссара.
Знакомое
здание корпуса. Помещение комиссариата.
Как я был недальновиден, что отказался от
комфортабельной комнаты с пружинной
кроватью. Все было бы гораздо скорее, я
успел бы выспаться и не пришлось бы ночью
ехать на плохом извозчике.
Почти
пустая, просторная, казенного типа
комната. Тускло горит электричество. У
простенка между окнами небольшой стол. За
ним три человека. Посередине молодой
человек, с бледным, красивым,
одухотворенным лицом, с большими,
возбужденными глазами. Маленькие усы над
правильным ртом. Одет чисто в форму
поручика саперных войск. Это, как я узнал
впоследствии, – поручик Станкевич,
комиссар северного фронта и правая рука
Керенского. Справа – маленький,
сгорбленный, лохматый рыжий человек, в
рыжем пиджаке. Скомканная рыжая
бороденка и усы, бегающие рыжие глазки, – типичный революционер, как их описывают в
романах. Но лицо умное и, несмотря на всю
свою некрасивость, симпатичное. Это был
помощник комиссара Войтинский, большевик,
идейный человек, ставший на защиту армии
от разрушения. Я слышал про него много
хорошего. И наконец,
по левую руку – уже знакомый мне
вольноопределяющийся Савицкий. Этот
пронизывает меня своими красивыми,
черными глазами.
Справа,
у стены, на диване – четыре человека, по
костюму – рабочие. Лица тупые, серые,
безразличные. Вероятно, – представители
псковского "исполкома". Весь
трибунал на лицо.
Станкевич
предложил мне сесть. Начался допрос.
Почему я оказался в эти тревожные дни в
Пскове? Ответ прост: получил предписание
вступить в командование III
конным корпусом и ехал его принимать. У
меня предписание с собою.
– Почему именно вас, а не кого-либо другого
наметил Крымов, а потом – Корнилов на
должность командира III
корпуса, – спросил Войтинский.
– Корпус мне хотели дать давно, еще весною.
Генерал Алексеев выдвигал меня на корпус,
и я знал, что получу или IV
или III.
Третий освободился раньше, мне его и дали.
– Не дали ли его вам по политическим
убеждениям? – вкрадчиво спросил меня
Войтинский.
– Я солдат, – гордо сказал я, – и стою вне
политики. Лучшим доказательством вам
служит то, что я оставался до последней
минуты при убитом на моих глазах
комиссаре Линде и старался его спасти. А
комиссар Линде – один из крупных
виновников революции.
Меня
попросили подробно рассказать о смерти
Линде, о чем в Пскове только что узнали. Я
рассказал все, чему был очевидцем.
Мой
рассказ расположил судей в мою пользу.
Они стали совещаться между собою.
– Знаете ли вы, – сказал мне Войтинский,
– что Корнилов арестован своими войсками и
Керенский вступил в верховное
командование?
– Ген. Алексеев принял на себя должность
начальника штаба верховного
главнокомандующего, – продолжал
Войтинский.
– Это хорошо, – сказал я. – Генерала
Алексеева очень уважают в армии.
– Вы видите, что вся эта авантюра,
задуманная Корниловым, рухнула, – сказал
Станкевич, – она пошла не на пользу, а во
вред армии. В частности, в III
конном корпусе, считавшемся самым
твердым, началось полное разложение.
Необходимо теперь всем стать на работу и
приняться за оздоровление армии.
– Поздно, – сказал я. – Армия погибла. У нас толпа,
опасная для нас и безопасная для
неприятеля.
Допрос
начал принимать форму беседы. Я скоро
понял, что Войтинский и Станкевич на моей
стороне, обвинитель только один – Савицкий; члены исполкома, как статисты в
плохом театре, дружно со всеми
соглашались.
Было
решено, что я дам подписку о том, что без
ведома комиссара не выеду из Пскова, и
буду отпущен к себе домой. Я написал эту
записку. Ведь оставаясь в Пскове, я тем
самым исполнял вторую часть приказа
Корнилова, высказавшего пожелание, чтобы
побольше генералов было в Пскове.
Станкевич
был так любезен, что даже обещал послать
моей жене телеграмму о том, что я жив и
здоров.
В
третьем часу я вышел из комиссариата и
побрел пешком отыскивать свою квартиру.
На
другой день, 31 августа, я был с докладом о
том, что произошло со мною ночью, у
начальника штаба ген. Вахрушева, а потом у
и. об. главнокомандующего Бонч-Бруевича.
Ни тот, ни другой не возмутились моим
ночным арестом.
– Что поделаете, – сказал мне своим грубым
голосом Бонч-Бруевич, бывший на этот раз
без ассистента из комиссариата. – Вот
вчера на улице солдаты убили офицера за
то, что он в разговоре с приятелем сказал
"совет собачьих и рачьих депутатов".
И ничего не скажешь. Времена теперь такие.
Их власть. Я без них – ничего. И потому у
меня – порядок и красота. И дисциплина,
как нигде... Да, вы знаете, ведь Крымов-то
ваш вчера застрелился.
– Как? – спросил я.
– В Петрограде, у Керенского.
– Да! Вот как! Я его хорошо знал. Крутой был
человек.
– А в командование корпусом вы все-таки
вступите, я переговорю с ген. Алексеевым
по прямому проводу. Корпус надо успокоить.
А вас донцы знают...
На
том мы и расстались, что я вступлю в
командование корпусом по получении
разрешения от Алексеева, что корпус будет
включен в число войск северного фронта и
расквартирован в районе Пскова. Алексеев
ответил приказом о допущении меня к
командованию корпусом и о подчинении
корпуса главнокомандующему северным
фронтом. Я пошел к генерал-квартирмейстеру,
генералу Лукирскому, чтобы наметить с ним
квартирные районы, написал приказ
корпусу о сосредоточении его к Пскову и
пошел к помощнику начальника военных
сообщений, полковнику Карамышеву, чтобы с
ним вместе распутать все бродячие
эшелоны.
IX.
Моральное
состояние III
конного корпуса.
Люди
задумывали планы, и планы эти казались им
вполне исполнимыми и великолепными, но
вмешивалась судьба и разрушала все эти
планы и устраивала так, что результат
того, что делали люди, был совершенно
обратен тому, чего они хотели достигнуть.
Крымов
застрелился. Это неправда, что его будто
бы убил на квартире Керенского адъютант
Керенского. Крымова всюду и везде
неотлучно сопровождал честнейший и
благороднейший офицер подъесаул
Кульгавов. Он мне подробно доложил все
обстоятельства смерти Крымова, и я не
имею ни малейшего основания сомневаться
в правдивости его показания. Да, у Крымова,
как у человека сильной воли, было слишком
много причин, чтобы покончить с собою.
Разговор
его с Керенским был очень сильный. Крымов
кричал на Керенского, потом поехал к beau-frere'y
(прим. – свояку) Керенского, полковнику
Барановскому, и у него прилег в кабинете
на оттоманке. Кульгавов был рядом в
комнате. Никто не входил к Крымову. Через
некоторое время раздался выстрел.
Кульгавов бросился в комнату. Крымов
лежал на отоманке смертельно раненый;
револьвер валялся на полу. Это не была
инсценировка самоубийства, но само
самоубийство. Через некоторое время
Крымов скончался, и армия его, шедшая на
Петроград, осталась без вождя.
Все
разваливалось. Штабные команды никого не
признавали и не слушались. В порядке была
только 1-я донская дивизия.
И
вот, потянулись комитеты к комиссарам. Я
еще не успел вступить в командование
корпусом, как увидел желтые погоны
уссурийцев в садике кадетского корпуса и
среди них – Вэйтинского, увидел драгун с
их председателем комитета юным мальчиком,
вольноопределяющимся Левицким,
толпящихся возле Станкевича.
Спасать
Россию не пришлось. Передо мною стояла
задача более скромная – спасать офицеров,
оздоровлять корпус, восстановлять в нем
порядок, хотя бы настолько, чтобы корпус
не был опасен для мирных жителей. Это
могли сделать по тогдашнему состоянию
корпуса только комиссары.
Я
пошел к Станкевичу и Войтинскому.
И
Станкевич, и Войтинский, и Савицкий, в
особенности первые два, с полною
отзывчивостью, скажу более – сердечностью отнеслись к этому
деликатному делу уговаривания солдат и
казаков и примирения их с офицерами.
Взаимными усилиями мы достигли того, что
части вернули своих начальников и стали
им повиноваться.
Одною
из целей похода Корнилова на Петроград
было уничтожить комиссаров и комитеты,
которые были всеми признаны крайне
вредными, ближайшим результатом неудачи
похода было усиление комиссаров и
поднятие значения комитетов, признание
самими начальниками их необходимости. Я с
самого начала революции боролся против
комитетов, низводя их на степень только
хозяйственного контроля, артели,
кооператива для закупок, и первый
комиссар, которого я увидал, был Линде;
теперь мне пришлось целыми днями
беседовать с комитетами и быть частым
гостем у комиссара и его помощника, и это
было вызвано действительною
необходимостью.
Но
был результат и гораздо худший. Неудача
Крымова подняла большевиков и усилила их
позицию в Петроградском Совете, и не
прошло и трех дней после того, как
Керенский взял на себя бразды правления в
армии и флоте, как он почуял более сильную
опасность слева – со стороны большевиков.
"Завоеваниям революции" угрожали не
правые круги, притихшие и подавленные под
солдатским террором, а анархия и
большевизм. Как ни странно это было, но за
первою помощью Керенский обратился к
тому самому III
конному корпусу, который шел арестовать
его.
1
сентября к Пскову собрались приморский
драгунский и уссурийский казачий полки и
стали разгружаться и расходиться по
деревням; драгуны – в большом порядке,
уссурийцы в порядке относительном. Все
остальные части были повернуты обратно и
направлены на Псков, а 2 сентября в 8 часов
вечера за мною экстренно приехал
адъютант начальника штаба фронта и повез
меня в штаб. Мне передали шифрованную
телеграмму от верховного
главнокомандующего Керенского о том, что
ввиду возможности высадки немцев в
Финляндии и беспорядков там, необходимо
сосредоточить 1-ю донскую дивизию в
районе Павловск – Царское, штаб в Царском,
а уссурийскую дивизию – в Гатчине и
Петергофе, штаб – в Петергофе.
Каждый
из нас уже по самой дислокации корпуса
понимал, что беспорядки в Финляндии и
высадка немцев – это тот фиговый листок,
которым прикрывались настроения
Смольного института и открытая
пропаганда Ленина в войсках
петроградского гарнизона.
Я
был в отчаянии. Только что сделанная
работа успокоения разрушалась. Кто
поверит, что ожидается высадка немцев?
Скажут: опять контрреволюция, опять
измена. Вся надежда была на подпись
Керенского и на комиссаров И
действительно, Керенскому поверили, а
Войтинскому и Станкевичу удалось
уговорить полки, что приказ надо
исполнить. Но, конечно, главное было то,
что никто ни оружием, ни словами не мешал
нам в походе, – большевики еще не были
готовы. К 6 сентября корпус
сосредоточился на указанных ему местах. Корпус
предназначался для борьбы с большевизмом
и "анархией" Не успев еще как следует
ликвидировать опасность справа, глава
мелкобуржуазной "демократии" опять
устремляет все свое внимание налево.
Нужно отдать ему справедливость,
Керенский проявил здесь достаточную
практическую сметку и классовую "сознательность",
обратившись за помощью к тем самым частям,
которые лишь накануне участвовали в
контрреволюционном мятеже.
оглавление
продолжение
|