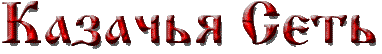|
Иван Родионов
ТИХИЙ ДОН
VI
Основавшись в Искере, Ермак
делал тяжелые походы далеко внутрь
Сибири, покоряя под высокую государеву
руку новые племена, которые потом
присягали быть верными России «до века,
покамест изволит Бог вселенной стоять».
Так покорил Ермак всю северо-западную
Сибирь до Оби и Тобола, а потом,
возвратившись в Искер, принимал все меры
к тому, чтобы устроить мирный, спокойный
быт покоренным.
По свидетельству
современников, он оказался правителем
мудрым, кротким и справедливым. Покорных
он миловал и ласкал, противящихся громил,
изменникам не давал пощады, среди своих
дружинников поддерживал строгую
дисциплину и карал тех из них, кто обижал
мирных жителей. К развитию промыслов и
торговли среди новых подданных русского
царя он прилагал неусыпные заботы.
Всем этим он быстро снискал
себе доверие и даже любовь сибирских
племен. В Искер и в другие города и
селения возвращались жители и находили
жилища свои целыми и имущество
нерасхищенным.
Вот свидетельство о нем
Карамзина: Ермак, «оказав себя героем
неустрашимым, вождем искусным, оказал
необыкновенный разум и в земских
учреждениях и в соблюдении воинской
подчиненности, вселив в людей грубых,
диких, доверенность к новой власти, и
строгостию умиряя своих буйных
сподвижников, которые, преодолев столько
опасностей, в земле, завоеванной ими, на
краю света, не смели тронуть ни волоса у
мирных жителей. Пишут, что грозный,
неумолимый Ермак, жалея воинов
христианских в битве, не жалел их в случае
преступления и казнил за всякое дело
студное... Казаки его, по сказанию
Тобольского летописца, и в пути, и в
столице Сибирской вели жизнь
целомудренную: сражались и молились»!
В ту же зиму после
кровопролитного боя Ермак взял в плен
первого сибирского витязя Маметкула,
принял его с великой честью, — говорится
в летописях, — уважив в нем царственный
сан и высокое мужество.
Завоевав России Сибирь, Ермак
по весне послал в Москву станицу во главе
с приговоренным к казни атаманом Иваном
Кольцо бить челом новым царством
Сибирским.
Станица была принята Грозным
царем с великою честью.
«Давно не было, по словам
летописца, такого веселья в Москве унылой».
Радовался царь, радовался
народ.
Царь богато одарил посольство,
простил все вины Ивану Кольцо и другим
казакам, допустил каждого к своей руке,
Ермаку пожаловал титул князя Сибирского,
шубу со своего плеча, богатую кольчугу и
шлем.
Вместе со станицей был
отправлен в Сибирь вспомогательный
стрелецкий отряд.
Велика была и радость Ермака,
осыпанного царскими милостями и помощью.
Герой ликовал и не знал, чем отдарить
прибывшего воеводу и стрельцов.
Но это было, кажется,
последнее ликование великого атамана.
Стрельцы пришли в Искер к зиме
и совершенно неожиданно для Ермака.
Продовольственных запасов оказалось
недостаточно для такого большого числа
людей. Снега в эту зиму стояли необычайно
глубокие, мешавшие подвозу хлеба. В
отряде появилась цынга. Сперва заболели
ею стрельцы, не привыкшие к чужому
климату. От них болезнь перешла на
казаков. Умер воевода царский, князь
Волховской и почти половина русской
боевой силы в Сибири последовала за ним в
могилу.
Татары подняли головы и в
конце концов обложили Искер со всех
сторон несметной ратью. План был
хитроумно придуман. Железное кольцо, в
котором оказался Искер с наполовину
больными казаками и стрельцами, было
настолько широкое, что ядра русских пушек
не могли долетать до татар, идти же
малочисленным казакам приступом на
окопавшихся и загородившихся повозками
врагов равносильно было подвергнуть себя
верному расстрелу из луков. Татары
рассчитывали выморить казаков голодом.
Три месяца продолжалась осада,
и наконец Ермак, предвидя в дальнейшем
полную гибель, решился на отчаянное и
рискованное дело. Сам он с частью отряда
остался охранять город, а другую часть
под начальством атамана Мещеряка послал
на вылазку. 12 июля темною ночью Мещеряк
вывел свой отряд из города, тихо, ползком,
пробрался к татарскому лагерю и напал на
врагов с оглушительным криком.
Те так поражены были
неожиданностью, что со сна в суматохе
падали под ударами казаков и рубили друг
друга.
Вся дальнейшая короткая жизнь
атамана прошла в тяжких заботах, трудах,
походах и битвах.
Убедившись, что в открытом бою
никак не сладить с горстью русских
витязей, татары изменили тактику.
Свирепый Карача, вельможа
скитавшегося в степях слепого царя
Кучума, притворился верноподданным
русского государя и другом казаков.
Раз он зазвал к себе в гости
атамана Ивана Кольцо с 40 казаками,
угостил их и когда простые сердцем,
честные витязи, ничего не подозревая,
безоружные, остались у него ночевать, по
приказу Карачи они все были перерезаны
сонными.
Гибель Кольцо — лучшего и
храбрейшего из атаманов, правой руки
Ермака, была жестоким ударом для князя
Сибирского.
Один за другим погибли в
битвах доблестные атаманы: Яков Михайлов
и Никита Пан.
Дошла очередь и до атамана-князя.
От коварства врагов и собственной
непонятной беспечности, которую Карамзин
называет неумолимым роком и объясняет
тем, что атаман был уже до крайности
утомлен жизнью, Ермак погиб в волнах
Иртыша в дождливую бурную ночь на 6
августа 1584 года.
Ложно уведомленный татарами,
что полчища Кучума не пропускают караван
бухарских купцов к Искеру, Ермак,
решительный и быстрый в своих действиях,
нисколько не медля, рано утром 5 августа,
взяв с собой 49 казаков, пошел освобождать
купеческие караваны и наказать
вероломных татар.
Весь день пробродив вдоль
реки по лесам и болотам, Ермак с дружиной
нигде не увидел и следа судов или татар.
Между тем посланные Карачей
разведчики, не возбуждая ни малейшего
подозрения казаков, зорко следили за
каждым их шагом.
Вечером, утомленный
бесплодными поисками, маленький отряд
расположился на ночевку на берегу Иртыша.
Наступила ночь, дождливая и
бурная.
Казаки спали в своих шатрах
мертвым сном, по необъяснимой оплошности
не озаботившись даже поставить стражи,
хотя по опыту хорошо было известно, что
татары всегда следят за каждым их шагом.
Между тем, пользуясь темнотою
ночи, завыванием бури, громом и шумом
дождя, татары осторожно подкрались к
казачьему становищу, окружили его
плотным кольцом и молча, дружной толпой
кинулись резать сонных и безоружных.
Стоны, крики, предсмертное
хрипение раненых и умирающих товарищей
пробудили Ермака.
Вспомнился ли атаману родной
тихий Дон, долгая верная служба царю,
сказочные победы и завоевание целого
царства?..
И вдруг все гибнет из-за
небольшой оплошности и смерть
заглядывает в глаза...
Живо, схватив оружие и покрыв
голову шлемом, Ермак выскочил из шатра,
зычным голосом скликая и ободряя своих
верных соратников...
Но вместо казаков,
большинство которых уже покоилось вечным
сном, а остальных добивали враги, на
атамана наскочили целые толпы татар.
Своим тяжелым мечом,
прокладывая кровавый путь среди наседавших
врагов, Ермак пробился к крутому берегу
Иртыша к своим лодкам и, улучив минуту,
прыгнул в воду.
Тяжелый стальной панцирь и
шлем — подарки царя затрудняли витязю
борьбу с бурными волнами, и атаман, не
доплыв до ближней лодки, утонул.
Из всех 50 казаков каким-то
чудом спасся только один, принесший в
Искер, как громом поразившую казаков,
ужасную весть.
Живо собрался казачий круг «думать
думушку единую».
Из всех атаманов, пришедших с
Ермаком в Сибирь, уцелел только один
Матвей Мещеряк. Около него теперь
столпились осиротелые витязи.
Не шумен был казачий круг.
Сумрачны и горестны суровые лица,
покрытые рубцами и шрамами, на закаленных
в бранных испытаниях сердцах накипали
невыплаканные слезы. Молча и угрюмо
оглядывали друг друга витязи. Как
поредели их богатырские ряды! Сколько
славных полегло в этой чуждой,
неприветной, далекой стороне. Всего-навсего
каких-нибудь полтораста человек
насчитывали они теперь в своей дружине.
Наконец, великий атаман, ведший их к
сказочным победам, погиб... и вместе с ним
сгинула чудодейственная воля, умерла в
них вера в свое дело и не осталось надежды
на будущее. Сердца их опустошены. Теперь
не устоять им, малым числом, перед
несметными толпами ободренных врагов...
Взоры всех неотступно
обращались к Мещеряку.
Атаман снял шапку.
Обнажились головы всех
казаков...
Мертвая тишина...
Тяжело было Мещеряку говорить
и странно, глухо прорезалась печальная
речь его.
Он говорил о том, что всем было
ясно, что у всех, как неизбежное решение,
лежало на сердце, но чего никто не решился
бы высказать вслух.
Атаман говорил о
невозможности дальнейшей борьбы, о
безвыходности их положения.
И круг единогласно постановил
бросить политый их кровью край, идти на
родину, донести обо всем царю,
предоставив все дело его могучей воле.
С понуренными головами пошли
казаки обратно в Россию.
Их отступление из
завоеванного края походило на путь львов,
окруженных стаями шакалов,
сопровождавших их радостно-злобным воем,
но не смевших броситься на малочисленных
царей пустыни.
Татары издали следили за
казаками, но не задирали непобедимых
воинов, страшных даже в своей
малочисленности.
Но по мере того, как
приближались казаки к границам России, их
опечаленные взоры все чаще и чаще
обращались в сторону покидаемой земли, в
головах роились тяжелые, беспокойные
думы, на сердце налегла тоска и сожаление
о брошенном крае.
Многие уже поговаривали о том,
чтобы опять вернуться в Сибирь, хотя бы
для того, чтобы лечь в могилы рядом с
товарищами и незабвенным атаманом.
Пройдя длинный трудный путь
до р. Туры, казаки неожиданно встретили
царского воеводу Ивана Мансурова,
шедшего с сильным отрядом в Сибирь на
помощь завоевателям.
Радости казаков не было
пределов.
Мещеряк и его дружина сознали,
что та чуждая земля, которую они покидали,
была им дороже старой родины. Оттого-то
при расставании с нею так невыносимо
болели их сердца, немой укор отягощал их
души.
Пролитая ими кровь, могилы
боевых товарищей, великий дух их
незабвенного атамана, осязательно реющий
над городами, весями, над дремучими
лесами и долами этой земли, властно звали
их сюда, в этот край, ставший им второй
родиной.
И все до единого казаки вместе
с отрядом Мансурова ушли в Сибирь на
новые подвиги и труды.
Эти остатки Ермаковой дружины
положили основание Сибирскому казачьему
войску.
VII
Между тем на Дону
продолжалась беспрерывная
кровопролитная война. Казаки не только
победоносно боролись у себя дома с
азиатскими соседями, но переносили свое
оружие и далеко за пределы своей родины.
Дошедшие до нас грамоты того
времени свидетельствуют, что крымские и
ногайские ханы и турецкие султаны так же
как и прежде, в своих представлениях
беспрерывно настаивают перед
Московскими царями, чтобы те свели
казаков с Дона, иначе у них мира и дружбы с
Россией не будет.
Дальновидные Московские
владыки все так же по-прежнему неизменно
отписывают, что «казаки донские и
волжские не наши — люди вольные, живут и
ходят без нашего ведома», а под шумок
время от времени посылают тем казакам
жалованье и милостивые грамоты.
Вообще московские цари
сознавали, что хотя донские казаки в
сношениях с соседними государствами
часто причиняли своим владыкам много
хлопот и дипломатической волокиты, но
удаление казаков с Дона они считали
предприятием невыполнимым и
самоубийственным для России, потому что
донцы являлись единственной
организованной добровольной и грозной
стражей Руси на нашей обширной юго-восточной
окраине. С удалением казаков с Дона эта
длинная граница была бы совершенно
обнажена и подставлена под
беспрепятственные удары крымских,
турецких и ногайских полчищ.
Следовательно, те
дипломатические неудобства, которые
создавались воинственностью казаков, в
неизмеримой степени искупались той
пользой, которую они приносили
Московскому государству.
При Феодоре Иоанновиче верная
служба донцов ценилась настолько высоко,
что жалованье, выдававшееся казакам при
Иоанне Грозном неопределенно и случайно,
выплачивалось теперь постоянно в
определенные сроки.
Но такое отношение круто
изменилось при вступлении на престол
Бориса Годунова.
Простым, бесхитростным
сердцам донцов — этих прирожденных
воинов, с детских лет до могилы
сражавшихся за русское дело с татарвой,
которую они презирали за постоянные
клятвопреступления и вероломство, — не
люб был на престоле св. Владимира
татарский отпрыск и ничего доброго от
него они не ждали.
Они, эти всезнающие
вестовщики Московского царства, не были
безграмотными в общей политике и потому
отлично помнили, какую роль играл Годунов
при двух последних царях Рюрикова дома,
какими злодеяниями и ухищрениями
добивался Борис Московского престола.
И тогда, когда вся Россия
сперва притворно умоляла, потом под
палками выбирала Бориса на царство, донцы,
обеспокоенные, сконфуженные тем, что на
Руси творится нечто противоестественное,
глубоко неладное, молчали.
Они без сопротивления вместе
со всей Россией присягнули Годунову, но
на Дону было смятение, уныние и ожидание
чего-то дурного. Не было подъема, не
замечалось ни малейшего воодушевления.
Поведение донцов и их ропот на избрание
Бориса в цари дошел до его ушей.
Себялюбивый и подозрительный,
царь был больно уязвлен таким недоверием
и нелюбовью к нему казаков, и
могущественный владыка стал мстить
маленькому боевому племени.
Прежде всего он лишил донцов
жалованья и тех даров, какими обыкновенно
цари награждали казаков за их службы, не
посылал им грамот, как бы давая этим
понять, что в составе русского
государства их как бы нет совсем.
Для безженных рыцарей, живших
войной и добычей, скудное царское
жалованье и дары не имели почти никакого
материального значения.
Со стороны же нравственной
такое отвержение царя, которому они, хотя
и неохотно, но все-таки присягнули и верно
служили, для казаков было большим ударом.
Они, оторванные от родины,
заброшенные в диком Поле, вечно
окруженные врагами, вечно смертно
борющиеся с ними, видели выражение связи
с великой Россией именно, с одной стороны,
в своей тяжелой службе, с другой — в
милостях и внимании царских.
Тут этой связи пришел конец.
Она оборвана рукой самого Московского
Венценосца. Казаки почувствовали себя
заброшенными, одинокими. Дотоле полная
смысла жизнь их теперь оказалась сплошной
бессмыслицей. Прежде они были в
постоянных оживленных сношениях с
Москвой, слали туда станицу за станицей,
теперь, под страхом смертной казни,
запрещено кому-либо из них появляться в
столице русского царства.
Несмотря на такие обиды,
несмотря на полное отвержение их службы
со стороны царя, инстинкт
государственности у этих безграмотных
русских воинов говорил сильнее и громче
личного самолюбия. Казаки своей
привычной службы передовой стражи на
границах России не только не оставили, но
даже и не ослабили.
В 1598 году, т. е. в пору разгара
царских немилостей, донцы имеют на
границах кровопролитные сшибки с
крымцами, берут плен и узнают, что
крымский хан со своей многочисленной
ордой, подкрепленной 7 тысячами турок,
намерен вторгнуться в пределы России.
Не смея послать вестовую
станицу прямо в Москву, потому что
посланцы, согласно приказу царя, могли за
это поплатиться жизнью, донцы немедленно
извещают о грядущем нашествии ближайшего
царского воеводу в Новом Осколе, прося
его как можно скорее уведомить об этом
царя.
Борис на эту казачью услугу
ответил тем, что в том же году построил на
Донце городок Царев-Борисов, поставил в
нем сильный гарнизон, укрепил его и
вооружил пушками, известив крымского
хана, что крепость эта воздвигнута им
исключительно для обуздания донских
казаков.
Донцы растолковали этот
поступок так, что в царе Борисе
заговорила его татарская кровь, что
кровные узы родства царь ставит выше
интересов русского народа и их,
православных русских людей, верных слуг
родины, головой выдает татарину — их
заклятому врагу.
Тут сердцем они окончательно
отвернулись от Бориса, но об измене ему и
не думали.
Вскоре царь издал указ,
которым казакам воспрещался въезд не
только в Москву, но и во все русские
города. Каждого, казака, перешедшего
границы своей области, приказано было
хватать, без суда ввергать в темницы,
сажать в воду, вешать и убивать. И
приказания царя исполнялись. Казаков
хватали в русских городах, вешали, топили
и убивали.
Наконец, зная, что на Дону не
сеется хлеб, не производится никаких
товаров, что материи, кожи, одежда, обувь и
хлеб привозятся из России, царь запретил
Московским купцам под страхом суровых
кар ездить на Дон и возить туда какие бы
то ни было товары.
Этим он бил казаков по самому
больному месту, желая это ненавистное ему
маленькое племя выморить голодом.
Смутен и беспокоен был Тихий
Дон в годы Борисова царствования. Однако
никаких бунтов не было еще на Дону. Казаки
и после таких оскорбительных царских
гонений честно несли свою многотрудную,
отвергнутую царем службу России, никому
на свое тяжкое положение не жаловались,
но их взоры часто оборачивались к северу,
невеселые думы бродили в кудрявых
казачьих головах, а сердца не могли не
жаждать перемен к лучшему.
оглавление продолжение
|